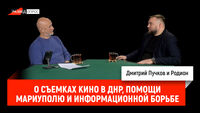Д.Ю. Я вас категорически приветствую! Александр Иванович, добрый день!
Александр Таиров. Здравствуйте.
Д.Ю. Кто у нас сегодня?
Александр Таиров. Я думаю, гостем нашим будет Караваджо, такой особенный художник. Я сейчас вспоминаю табель о рангах: обычно в нашем общекультурном представлении, в этом нашем пространстве, которое есть у каждого из более-менее культурных людей, или, я не знаю, посвящённых людей, где мы черпали знания из каких-то энциклопедий, из каких-то обрывков знаний, когда мы читали те или иные специальные журналы, предположим, раньше где это было – кто «Юный художник», кто «Огонёк», были там часто такие рубрики, и встречалась такая фамилия – Караваджо, мы воспринимали её как фамилию, на самом деле это прозвище. Как это часто бывало у итальянцев, и итальянских художников в частности, когда им имена заменяли прозвищами по их происхождению – из какого города, из какого посёлка они произошли, и подчёркивается, что только 3 великих художника избегли этого – это был Микеланджело Буонаротти, Леонардо да Винчи и Рафаэль … Ну и Тициан, пожалуй, хотя иногда говорили «из Кадоре», где он родился и откуда он приехал в Венецию. Ну а вот эти 3 художника, наверное, заслужили право своим величием, масштабом личности.
Но интересная вещь такая: когда я вспоминаю мои представления о Караваджо – ну да, был Караваджо, это какой-то художник среди общей массы итальянцев. Я думаю, у основной массы людей, так или иначе интересовавшихся косвенно, не глубоко, Караваджо не вызывал особо пристального интереса, и только достаточно недавно, а именно, между прочим, хочу заметить, что первая персональная выставка, если можно этот термин применить к художнику того периода, поскольку невозможно представить, что персональные выставки вообще могли иметь место в то время, она состоялась в 1951 году, как это нам ни покажется странным, а устроил её Роберто Лонги – это исследователь, который обнаружил Караваджо, или открыл Караваджо вообще миру, по большому счёту, скажем так, это модно говорить: цивилизованном миру. Ну, цивилизованному миру он открыл это, и открыл это в начале прошлого века – где-то в 1910-ом, может быть, чуть позже. Там была какая-то большая выставка устроена, и в рамках этой выставки вдруг как-то всё это проскользнуло, и он начал исследовать и атрибутировать работы, что самое интересное.
Ну вот что касается Караваджо, для меня этот момент некого не то, чтобы забвения, но отношения как бы полупренебрежительного, наряду с остальными художниками-итальянцами, имён которых достаточно много, гораздо больше, чем каких-либо других имён в любой истории мирового искусства. И мы знаем, что там их столько! Ну и Караваджо, как бы, в ряду. Но как открыл Лонги, как выяснилось, что без Караваджо не было бы многих других художников в том их величии, в котором они перед нами предстали, а именно: это был Веласкес, это был Рубенс, это был Рембрандт, и это были многие французские художники-последователи, и тот же Делакруа – имён достаточно много, т.е. выяснилось, что вот этот метод творчества, это направление, которое им было создано, оно на самом деле определило на длительное последующее время сам характер живописи. Вот этот момент, связанный с контрастным отношением в рамках одного произведения, эти яркие световые вспышки на тёмном фоне, по сути дела, были его открытием и тем открытием, которое он использовал широко. Нельзя сказать, что до него не было людей, писавших на тёмном фоне – были, но сознательно и подчёркнуто это использовавших не было, он был первый, который это сделал, и открыл, явил миру совершенно невероятные свойства воздействия как бы выхваченных из темноты главных действующих лиц, или центральных фигур, или центральных событий, которые он хотел показать. И надо сказать, что он пользовался этим виртуозно, и в этом смысле невероятно преуспел. Но вообще я считаю, что, как и любое открытие, а это, по сути дела, было открытием, потому что каждый момент оригинальности, каждый момент какого-то творческого взлёта построен на вдохновении, на каком-то пути к этому, на каких-то длительных поисках и каком-то озарении. Мне кажется, что вот это к ему пришло в один из моментов, его живопись, кстати, называли «подвальной живописью», или «погребной» иными словами…
Д.Ю. Из-за темноты?
Александр Таиров. Да, ну как бы он из темноты выхватывает, и они были недалеки от истины, я чуть позже, коснусь этого. На самом деле, тут ещё вот о чём нужно сказать: как это часто бывает в истории художников той эпохи, да я думаю, даже и не той, потому что я уже как-то говорил о том, что когда рядом с тобой живёт и творит какой-то человек, ты не можешь с определённостью сказать, что его ожидает бессмертие, он – гений. А почему я это говорю: не возникает желания у рядом живущих людей описывать каждый его шаг, каждое его достижение, всю его биографию. Это у великих есть биографы, которые подобострастно строчат каждую его поездку, каждый его жест – что он сделал, что он открыл, какое повеление он издал, указ и т.д. А у простых, у художников, у учёных и т.д. нет таких живописцев рядом, живописцев слова, я имею в виду. И то же самое, я думаю, у Караваджо не было. Были завистники? Да, были, конечно, завистники, потому что как не может не быть их у человека такой работоспособности?
И вот тут я перехожу к одному очень важному моменту: о судьбе Караваджо, как в прошлой нашей встрече, посвящённой Босху, известно кое-что, но это «кое-что» нейтрализуется тем обстоятельством, что сведения очень противоречивые, причём эти противоречия объяснялись простым фактом: во-первых, одним из биографов был некий Бальони, художник, его конкурент, скажем так, который, если поначалу испытывал некую симпатию к нему, когда он был только начинающим художником, когда он не подавал каких-то особых надежд и угроз его существованию, конкурентом у него не был, он с симпатией относился и как-то так принимал его более-менее благосклонно. Тогда же, когда он стал проявлять свой характер, свой гений, и когда он стал получать заказы, которые вызывали всеобщее восхищение на тот момент, когда они принимались – это не могло не вызвать отторжения. И потом, он же стал работать в совершенно иной манере, не в той манере, о ней мы будем говорить. И вот сейчас меня переполняет противоречивое чувство, опять же, касающееся этой противоречивой фигуры, когда мне хочется буквально выплеснуть всё то, чем я наполнен по отношению к этому художнику, потому что очень много интересных моментов, которые объясняют его, как личность.
Но вернусь к «погребной» его сущности, что ли, которую назвали «погребной» - откуда это возникло? Дело в том, что в один из моментов жизни, не самом начальном, он попал к некому монсеньору Петриниани, который ему с подмастерьем Марио Миннити дал комнатку на втором этаже, а саму мастерскую дал ему в подвале, как это ни покажется странным, но подвал был сухим, там выдерживались сыры, хранились окорока копчёные, в общем, всё было хорошо – сухой, чистенький подвал. Но если мы говорим о подвале, то источник света в подвале каков? Только дверь. Открытая дверь создавала направленный пучок света, и мне кажется, что вот это обстоятельство, потому что в предыдущих работах этого так чётко не обнаружилось, а вот тогда, когда он начал работать в подвале, мне кажется, тогда-то ему и пришла идея, когда он обнаружил вот этот чётко направленный луч, и создавая работы там, он вдруг обратил внимание на то, какой характер они приобретают, какую степень выразительности, они отличаются от всего того, что было до сих пор. Я думаю, вот этот момент и послужил для него открытием, которое он усилил своими художническими достижениями, своим способом видения.
И вот тут я хочу сказать о следующем: мы откладываем, отодвигаем в сторону этот момент – вот мы коснулись подвала, и по моим предположениям, я не встречал об этом чёткого упоминания, но по всем каким-то свидетельствам, с которыми мы так или иначе сталкиваемся, когда касаемся его творческой биографии, есть намёки на то, что, наверное, всё-таки этот подвал – один из ключевых моментов был, ну по крайней мере, я так думаю, я позволяю себе такое допущение делать. Но когда мы говорим о Караваджо, нужно сказать вот ещё о чём: мы не можем пройти мимо него, как личности, очень противоречивой, очень своеобразной личности, ведь по отдельным свидетельствам – вот я говорю о противоречиях – по отдельным свидетельствам, о нём говорят, как о бретёре в какой-то мере, как о человеке который кочевал из таверны в таверну, играл в карты, постоянно был участником каких-то стычек и инициатором каких-то стычек, ну и был скандального характера, и Бальони в этом отношении очень сильно педалировал это обстоятельство, и на нём концентрировал себя. Он даже позволил себе такое: «Он так прескверно умер, как и жил». Понимаете – вот по отношению к такой фигуре, как Караваджо так сказать.
На самом деле, если коснуться того, как он умер – по большому счёту, и этот момент неизвестен. Его высадили на одном из небольших… небольшого какого-то городка, сейчас я точно не могу назвать его, его там высадили, корабль, на котором он пытался приплыть в Рим, оставил его там. Его там задержала испанская полиция, поскольку это был испанский протекторат, т.е. под владением Испании, но потом обыскала, отпустила, и он пешком пошёл в Рим по берегу в жару такую, в знойный день, без головного убора. Он потерял сознание, упал, но что интересно – что никто его тело так и не нашёл.
Когда сталкиваешься с какими-то моментами, живописующими его биографию, то там очень много противоречивых суждений: то ли его нашли и захоронили в общей могиле, что послужило поводом для того, чтобы относительно недавно пытаться, итальянцы попытались найти его среди тех костей безвестных людей и вроде бы провели какую-то генетическую экспертизу, определили, что да, это его кости, и потом торжественно захоронили эти кости. Причём что интересно – что на гроб его положили не что иное, как натюрморт, одна из картин – это натюрморт, ведь он считается основоположником натюрморта, как самостоятельного жанра. До него натюрморты писали – голландцы писали, и всё, но подчёркивается то, что натюрморты служили частью картины, они являлись элементом картины, как бы антуражем и композиционным дополнением какому-то основному сюжету, а он… И вот интересен ещё один момент: Джустининани, один из коллекционеров, богатейший банкир генуэзский, говорил, что натюрморт он писал с такой же страстностью, с такой же самоотдачей, с какой он писал лица людей. Т.е. это подчёркивает то обстоятельство, что для него не было второстепенных элементов, и поэтому, когда мы смотрим на его натюрморты, которые являются и составными частями, и самостоятельными, они написаны с невероятной тщательностью и мастерством. И вот на гроб этот был положен натюрморт, прямо один в один, как на картине. Когда я это увидел, у меня подступил комок к горлу – настолько трогательно, настолько эмоционально сильно, представляете, как это сделали? Ну гроб, там, лежит он, не лежит он, но тем не менее это всё то, что должен был увидеть при жизни, вообще, на самом… т.е. не при жизни, а тогда, когда он умер, и он заслуживает этих похорон, на самом деле.
И что получилось: когда он вынужден был скрываться, а он вынужден был скрываться в заключительной фазе своей жизни в силу того, что он убил человека, и вот смотрите – когда я читал о Караваджо какие-то обрывки сведений, и мы знаем, что он убийца, он убил человека. В нашем представлении, человек, убивший человека – убийца, тем более если художник, если он не военный. Ну, если он убил человека, значит, он заслуживает всяческих порицаний. И вот эта тень, которая всегда падает на человека, когда мы о нём думаем, как об убийце, она вольно или невольно наложилась на Караваджо, и я даже признаюсь, что и у меня было такое ощущение: что это за художник, который ещё и убил человека, или убивает человека в какой-то драке? Дело художника, его ремесло – это вот… Да, я знал, что существовал такой художник, как Бенвенуто Челлини, который был вообще бретёром, он был забиякой, он был физически сильным человеком и занимался прикладным искусством по золоту, по серебру, был невероятным искусником, и мы часто встречаем в различных романах упоминания о том, что кубки работы Бенвенуто Челлини, как подчёркивание того, что это некое особое изделие. И вот Бенвенуто Челлини – да, он известный был бретёр, но живописец и бретёр? Как-то вот отведено место Бенвенуто Челлини особенное, а вот Караваджо – что за… я не буду говорить, каких-то крепких выражений применять, но всё равно какое-то такое двойственное отношение было, и оно довольно долгое время мной, в частности, владело, пока я не углубился в исследование самого характера этого человека. И отсюда возникает у меня впечатление, что сам характер человека накладывает отпечаток на его поведение, на его поступки, и он многое объясняет, на самом деле, ведь когда мы говорим о Караваджо, мы должны сказать следующее: это был очень неуравновешенный, эмоционально возбудимый, вспыльчивый человек. Но при этом мы должны понимать, что он ещё был тонко чувствующим человеком. Знаете, ещё одна есть особенность, вообще, у нас у всех, в принципе, есть особенность: когда речь идёт о великом человеке или о человеке, который достиг определённых результатов в ходе своей жизни, как результатов деятельности, мы обычно наделяем его какими-то желаемыми, совершенными чертами человека, не понимая одного обстоятельства и не беря во внимание этого обстоятельства – что человек всегда остаётся человеком, чем бы он и в какой форме ни занимался и каких бы результатов он ни достигал. Мы должны прекрасно понимать, что он со всем комплексом, и вот есть же такое выражение, что недостатки есть продолжение его достоинств.
Д.Ю. Логическое продолжение.
Александр Таиров. Да, конечно, и мы не можем рассматривать творческую личность, да и любого человека, как нечто идеальное, как некоего святого, что ли. Вообще святых людей крайне мало, если они вообще в человеческой природе. Если люди кого-то возвеличивают и кого-то возводят в сан святых, то это делается по прошествии достаточно длительного времени, по большому счёту.
Д.Ю. С вашего позволения добавлю, что, как правило, святой жил безобразно, например, был бандитом, убийцей, грабителем всегда, но потом что-то понял, жизнь свою радикально поменял, всё это отринул и дальше жил, как святой, и святым был признан уже потом. Замечу: в жизни его было всякое, он что-то осознал, стал другим, изменился – это ключевое. Так это даже святой был негодяем и убийцей, а к простому смертному какие вообще претензии? Это только у детей бывает нам знакомое явление: «Я думал, ты хороший, а ты, оказывается, вон какой». Так это у тебя в голове какой-то фантазм был построен, а на самом деле это живой человек.
Александр Таиров. Да, но когда мы говорим о человеке, в любом случае, сегодня уже надо понимать любому здравомыслящему человеку, что человек есть совокупность, сумма каких-то качеств, где вмещается всё, и мы уже говорили, когда говорили о Босхе: и великое, и низкое, и низменное, и возвышенное – это всё там, в разных пропорциях оно присутствует, и человек – это характер, вообще говоря, человек – это некая сумма каких-то психологических, психофизиологических качеств. Это, кстати говоря, и пластика движений, это и воспитание – это сумма очень сложных элементов, из которых, собственно, и ткётся человеческая личность, с позволения сказать. И у Караваджо, я думаю, что если бы он не был тем, кем он был, он бы не создал бы столь экспрессивные, столь напряжённые произведения, которые он создал. Когда я касаюсь его произведений и когда я смотрю на то, что он делает и как он это делает, ведь если мы говорим о Рубенсе, он многое перенял у Караваджо. «Воздвижение креста» есть у него работа – очень выразительная работа, большая работа, большого формата работа, где дело происходит – воздвижение креста с распятым на нём Христом, и вот эти вот фигуры, которые я там вижу, они парафраз, во-первых, с одной стороны, микеланджеловских работ, а со второй стороны, караваджовских каких-то определённых элементов, прямо в чистом виде там это прослеживается. Красивая, очень эффектная работа. Не будь Караваджо – не было бы вот этой работы, понимаете, и вот эта экспрессия, этот драматизм, и вот когда я сказал о драматизме, тут же мне вспомнилось: Мартин Скорсезе считал его своим учителем, и он очень почитал Караваджо.
Д.Ю. Отброшу ложную скромность и скажу вам, что мы на фоне чёрной тряпочки именно поэтому – эта тряпочка позволяет показать человека, не отвлекаясь ни на что.
Александр Таиров. Да, она выпуклым делает вас, саму доминанту этого пространства, которой мы являемся – позволяю себе такое, хотя не претендую нисколько на какие-то такие выспренние вещи.
Д.Ю. А Скорсезе примеры какие-то приводил, нет?
Александр Таиров. Да, он своим операторам говорил: вот смотри, как делает он, буквально смотри на его картины, и он выставлял свет, он выстраивал сцены. Интересующиеся могут посмотреть – он прямо сцены выстраивал, ну скажем, есть картина «Призвание Матфея», там выстроена мизансцена, и там, где я смотрел источники, там прямо показаны эпизоды, где Скорсезе выстраивает сцены, выхватывая и высвечивая, освещая это таким же образом, как в «Призвании Матфея». И на самом деле, там какой-то фильм, по-моему, посвящён был гангстерам, итальянским мафиози, и вот там сцена – лица были выхвачены так же, как на этой работе «Призвание Матфея». И я позволю себе такое допущение, что на самом деле любой большой художник сочетает в себе очень много качеств: он может быть и драматургом, и режиссёром, и постановщиком света, условно говоря, когда он создаёт композицию, и когда ты смотришь, скажем, на то же «Призвание Матфея», потрясающее по своему воздействию… Дело в том, что нам очень часто свойственно относиться ко многим произведениям искусства, я говорю не только о живописи, я могу это сказать и о музыке, и о драматургии, и о литературе, порой мимоходом, мы – люди зашоренные, при постоянном дефиците времени, порой пробегаем так, как у Пушкина граф Нулин пробегает. Вот есть такой роман: он, в постели лёжа, глазами пробегает роман Вальтер Скотта. И вот этот вот характер пробегания взглядом не даёт нам возможность окунуться и пережить эти состояния.
Когда ты смотришь на эту работу «Призвание Матфея», ты вдруг для себя выстраиваешь некое повествование там. Да даже дело не в повествовании, а это состояние изумления, состояние спонтанности. И тут работает очень много факторов в этой композиции, эта композиция не случайно столь впечатляюща была для массы народа, когда она была вывешена в храме Сан-Луиджи-деи-Франчези, она привлекала большое внимание – собралась аристократия, народ, который с восторгом внимал происходящему на полотне. Дело в том, что там была изображена группа, где сидел Левий Матфей, как известно, сборщик податей, и они подсчитывали деньги, стол стоял перед стеной дома. А вот смотрите, интересно: некоторые искусствоведы говорят, что это было перед стеной дома, а некоторые говорят: это было в комнате расположено. Представляете, какое толкование противоречивое, хотя там очевидно, что ставни открываются наружу, и естественно, они снаружи-то и закрываются, это наружная стена – это очевидно. И тем не менее, некоторые искусствоведы позволяют себе говорить, что сцена происходит в комнате. Ну и это очередной момент, который говорит о спорности многих утверждений.
Так вот, за столом это происходит, и понимаете, ещё один парадокс, одно смелое решение, т.е. революционное, авангардное такое решение, потому что, представьте себе: сидит вот эта группа – Матфей, человек, считающий деньги, ещё один наклонившийся пожилой человек и двое молодых. Это двое молодых людей, собственно говоря, сопровождающие, вооружённые, потому что он не мог ходить без того, чтобы его никто не охранял.
Д.Ю. Конечно!
Александр Таиров. Особенно в те времена. Принять во внимание Рим, о котором я, может быть, что-нибудь скажу позже.
Д.Ю. Инкассатор фактически.
Александр Таиров. Да, по сути дела, инкассатор, но большими полномочиями наделённый. А справа там изображены 2 фигуры – это Пётр и сам Христос. И можете себе представить, они изображены на периферии картины. О ужас, они там, на периферии! Причём, мало того, они вообще в полумраке. Христос стоит вообще за Петром, Пётр на первом плане, а у Христа немножечко освещённое лицо и длань, рука, показывающая жестом Микеланджело, кстати, вот таким вот жестом Микеланджело показывающая на Левия Матфея. И так драматично показано, что Левий Матфей не ожидал этого, он занят совершенно другим делом, сугубо материальными вещами – надо тут собрать деньги, кто ты такой вообще, откуда ты взялся? И он буквально, естественно, смотрит туда, в сторону Христа, и как бы показывает: я? Не веря этому и изумлённо – ну вы представьте себе: человек занимается вполне определёнными вещами, очень серьёзными, я не знаю, есть ли более серьёзные вещи, чем…
Д.Ю. Материальная ответственность, да?
Александр Таиров. … и подсчитывание денег, вообще говоря. И вот это показано, и он же не канонически поступил – ведь Христос должен быть центральной фигурой в этой композиции, а он его загнал вправо, мало того – поместил за Петром, и мало того – едва высветил его лицо, и только рука торчит из-за фигуры Петра. Вот представляете, насколько революционен он был? А это была его первая монументальная работа, хочу заметить, и он всё равно выступил вот в таком интересном, своеобразном качестве – как мощный режиссёр, по сути дела, как демиург этой картины, он создал эту картину, он её придумал, и вот эти лица, написанные, выхваченные в манере кьяроскуро, вот это тенебросо (тенебросо – это испанский вариант контрастной подачи материала). И вот эта картина, конечно, произвела определённое впечатление, и с тех пор он стал признанным художником, и к нему выстроилась очередь за тем, чтобы он выполнял эти работы. Так вот, я хочу подчеркнуть, что когда мы смотрим… я заговорил о Мартине Скорсезе, да – ведь Мартин Скорсезе создавал, придумывал эти сцены, действия героев, движения героев, и когда я думаю о Караваджо, Караваджо в этом отношении как раз и был создателем, он был режиссёром.
Когда начинаешь делать эскизы, ты проходишь много этапов эскизирования, прежде чем придумаешь, где что размещать, это достаточно ответственный процесс, а то, как он делал, причём, подчёркивается ещё одно обстоятельство – что он один из первых стал просто помещать героев спиной к зрителю, что интересно, и эти герои, часто в его картинах такая особенность проявлялась – что те, кого он изображал, порой было ощущение, что они выходят за пределы рамок как бы, они выходят к зрителю зрительно. И вот там один из его телохранителей прямо так сидит спиной. И тут у меня невольно возникает аналогия: очень часто мы видим в фильмах или в других ситуациях, когда действующие лица размещены за столом перед камерой, как если бы они вот так вот собирались. А он же… И ведь ещё называли его пренебрежительно натуралистом или реалистом, как элемент такого уничижительного прозвища. Потому что давайте мы коснёмся того момента, что до этого произошёл упадок вообще изобразительного искусства в Италии, когда оно переродилось в худшие варианты маньеризма, когда занялись украшательством и создавали некие сюжеты, которые вообще никак не были связаны с реальностью жизни. И вот это украшательство, эти неземные создания, этот какой-то искусственно придуманный мир был элементом такого возвышенного, которым только и могло быть искусство, и это проповедовалось, и этот рафинированный академизм достиг своего предела, и аристократы заказывали только эти работы. И поэтому когда он ворвался со своей правдой, он поначалу никому не был нужен, никому не был интересен, и только тогда, когда люди вдруг почувствовали, что его работы наполнены свежестью, наполнены дыханием жизни, только тогда к нему повернулась лицом и группа коллекционеров, среди которых были, естественно, и аристократы, обладавшие деньгами. А деньгами обладали в Папском государстве кто? Во-первых, банкиры, во-вторых, кардиналы все. И тут вот ещё интересно…
Д.Ю. Вот это, извините, перебью, больше всего лично меня поражает – это же церковь, которая: не допустим изображения Господа нашего Иисуса Христа в неподобающем виде, а тут взял, нарисовал – и ничего за это не получил?
Александр Таиров. Нет, не то, чтобы ничего не получил, нет. Когда контрреформация набрала свои обороты, уже после его смерти, буквально почти сразу, может, после некоторого промежутка времени, все его работы были изъяты из храмов.
Д.Ю. Ааа!
Александр Таиров. Да, специальным постановлением они были изъяты, как еретические, как не соответствующие церковным канонам, потому что в то же время был уже сформулированный определённый в Своде установлений, уложений, сформулированы в виде труда, отдельно изданного, как должны выглядеть: что должно быть на картинах, как это должно быть изображено, и ни шаг влево, на шаг вправо – это всё канонизировано было. И в соответствии с этим, работы его были изъяты почти из всех храмов и определены в запасники, на чердаках, но что интересно: благодаря этому они, собственно, и сохранились от разграбления.
Д.Ю. Диалектично, да.
Александр Таиров. Когда вошёл Наполеон, всё, что было на виду, он разграбил, а неизвестный Караваджо – кому он интересен, кому он нужен? Между прочим, подчёркивается, что в силу этих обстоятельств и Россия, очень активно скупавшая работы по повелениям императоров или по желанию императоров, и Екатерины в том числе, не купила. Была куплена всего одна работа, которая сейчас в Эрмитаже – это «Лютнист» - всё, в то время, как они продавались там за бесценок и могли быть куплены и быть в коллекции императоров. Но вот так получилось.
Д.Ю. Вернёмся чуть-чуть назад, где покупать могли только олигархи-банкиры и священнослужители, у которых были деньги, да?
Александр Таиров. Естественно, они только.
Д.Ю. Так, и по частным коллекциям много разошлось?
Александр Таиров. Конечно, да: и коллекция Боргезе, коллекция Джустиниани, коллекция Памфили, коллекция банкира Косты, и Папская коллекция, безусловно, ведь когда его преследовали, когда он скрывался от всех, как загнанный зверь, на самом деле, сложились такие обстоятельства, когда он сам уже никому и не был нужен. С ним произошло что: в результате травли вот этой – ну представьте себе: Папа издал указ, согласно которому он подлежал смерти, а что это значит? Он был объявлен вне закона, и любой, кто его встретит, обязан был его убить на территории Папского государства, на секунду.
Д.Ю. Что за прегрешения такие? Что вменяли-то ему?
Александр Таиров. Убийство.
Д.Ю. Он убил?
Александр Таиров. Да, он убил, но давайте коснёмся, коль скоро я о нём заговорил, этого самого убийства, как оно произошло, на самом деле. Это произошло во время игры в мяч, была взята такая верёвка, как-то называлась эта игра… «la palla-corda» она называлась – «мяч-верёвка», наподобие тенниса. И после игры, а игра была на интерес, конечно, возник спор между ним и его противником, между болельщиками с одной стороны и болельщиками с другой – ну, в порыве игры, да ещё у эмоциональных итальянцев, да ещё и он эмоциональный, и противник его Рануччо Томассони, о котором я тоже ещё скажу. А Рануччо Томассони – это был, извините меня, авторитет.
Д.Ю. Уголовный?
Александр Таиров. Да, уголовный, бандитский авторитет, но что интересно – что как это происходит и в известные времена, нам знакомые, этот авторитет Рануччо Томассони был связан с определёнными политическими влиятельными фигурами, кстати, происпански настроенными. И вот это обстоятельство, а поскольку Папство было происпански настроено в т.ч., это обстоятельство сыграло определённую роль в жёсткости этого указа. Но не только это обстоятельство.
Д.Ю. Как убийство-то произошло?
Александр Таиров. Сейчас я расскажу. Но не только это обстоятельство, тут есть интрига: Караваджо должен был сделать портрет Папы этого. Племянник этого Папы Шипиони Боргезе, его доверенное лицо, по-моему, он секретарём у него был, или секретарём самого Папства, он был почитателем Караваджо, и он способствовал тому, чтобы Караваджо сделал портрет Папы. А Папа дал ему только 3 сеанса по полчаса, не более, сказавшись таким занятым, причём с недовольным видом, и как-то всё сразу не заладилось. Но в итоге он всё равно сделал этот Папский портрет, но поскольку он был художником правды, а в скобках замечу, что он был очень прямолинейным человеком, он был вообще совершенно искренним, открытым человеком, возбудимым, вспыльчивым и очень правдивым, что ли, любившим правду человеком, и он не стал создавать комплиментарный портрет, он сделал так, как он выглядел. А Папа, надо сказать, выглядел довольно посредственно, мягко говоря, и когда он увидел свой портрет со своим крючковатым носом, оплывшим лицом и маленькими глазками – ну кому это понравится? И он, ни слова не говоря, подошёл к своему племяннику, что-то ему шепнул на ухо и ушёл. Портрет категорически ему не понравился, и несмотря на то, что на этот портрет Караваджо возлагал надежды, что благодаря ему он станет придворным художником, я потом ещё коснусь этого момента – это тщеславие, которое ему было не чуждо, при всей открытости, при всём правдолюбии…
Д.Ю. Это деньги.
Александр Таиров. Да, ну это всё остальное – это признание, это гарантию…
Д.Ю. Деньги дадут возможность заниматься тем, чем хочет.
Александр Таиров. Да он всегда занимался, чем он хочет, я объясню, что это было так. Но вот это сыграло, это было тем роковым обстоятельством, которое и способствовало изданию этого указа, где он объявлен был вне закона. Так вот, убил он в этой игре, когда возник спор, и этот Рануччо Томассони, с которым он и раньше сталкивался, но как вы знаете, он авторитет, он как бы уповает на свою силу, на своё влияние и на свою непогрешимость, на поддержку всех тех, кто его окружает, и между ними возникла перебранка, выхвачено было оружие, а Караваджо неплохо фехтовал. Он владел прекрасно кинжалом и шпагой, об этом я скажу позже, почему, откуда это всё. Хотя есть сведения, что он был связан с бандитскими кругами, и там в этих кругах он всему этому обучился. Видите, опять противоречие какое с тем, что было на самом деле, и было ли это на самом деле, опять же возникает сомнение.
Так вот, в этом поединке, где Рануччо Томассони осуществлял оскорбительные, унизительные выпады в его адрес, нанёс ему ранение, между прочим, и Караваджо осуществил последний выпад, и этот выпад был Рануччо Томассони в пах. И Караваджо тут же потерял сознание. От этого ранения Томассони тоже упал, долго корчился в болях, крича, и затих, и умер, всё. А друзья, которые были свидетелями этого всего, унесли Караваджо, ну и тут же посоветовали ему бежать из Рима, поскольку ситуация очень тяжёлая, и пока тут разберутся, от греха подальше уйти.
Д.Ю. Он ему в артерию, поди, попал?
Александр Таиров. Наверное.
Д.Ю. А целился в естество – это так принято были или специально …?
Александр Таиров. Это сейчас можно делать допущения, понимаете: может быть, он это сделал специально?
Д.Ю. Как художник, он в анатомии должен был разбираться.
Александр Таиров. А дело в том, что тут ещё одно обстоятельство – Рануччо Томассони был так или иначе замешан в отношениях и каких-то скандалах, связанных с подругой его девушки – Фелидой Меландроне, а девушку его звали Анна, Аннучча Бьянкини, с какой-то, как это называют нынче – с низкой социальной ответственностью, по-моему, выразился один из наших руководителей: с низкой социальной ответственностью.
Д.Ю. С пониженной.
Александр Таиров. С пониженной, да. И вот она была его подругой, Меландроне и она очень дружили, и он писал их, они были моделями для него. И я так думаю, об этом не пишется, но если затронуть этот вопрос, то очевидно – итальянцы-то народ такой, они не делают таких вещей случайно, ну может быть этот выпад в полубессознательном состоянии, или теряя сознание, он осуществил, нанёс эту рану вот таким унизительным способом.
А теперь коснёмся вопроса, где и когда он мог научиться владению шпагой.
Д.Ю. А там на шпагах было, не на кинжалах?
Александр Таиров. Нет-нет, на шпагах.
Д.Ю. Т.е. они со шпагами в мячик играли, да?
Александр Таиров. Ну вот как ни странно.
Д.Ю. Интересно.
Александр Таиров. Да, так он не расставался почти никогда со шпагой, это было моментом, который служил всегда поводом для привода в полицию. Там если какие-то документальные свидетельства и остались от Караваджо, то это вот протоколы привода в полицию, допросы и т.д. И у него же на шпаге было: «Нет надежды – нет страха» - было выгравировано на шпаге у него. Как это интересно. «Нет надежды – нет страха» - ну вообще интересная фраза такая.
Теперь нужно коснуться, когда он родился и где он родился, и как, собственно, это всё произошло. Родился он, вот смотрите, опять: то ли в Милане, то ли в Караваджо – об этом тоже ничего не известно. И долгое время считалось, что он родился в 1573 году, а это, оказывается, он прибавил себе 2 года, чтобы казаться старше, когда он оказался в Риме. На самом деле он родился в 1571 году, по-моему, 29 сентября – как раз в день Св.Михаила-архангела, в результате чего он и получил имя – Микеланджело, по-итальянски Михаил-архангел. И вот он получил имя, которое в какой-то мере, я думаю, для него было путеводной звездой в какой-то момент. Представляете – инедавно ушёл из жизни абсолютный, непререкаемый кумир Микеланджело Буонаротти, и вот он Микеланджело. Мне кажется, что чисто психологически тогда, когда он оказался в Риме, это магическим образом действовало, это как внутренний был допинг дополнительный: он Микеланджело, и я Микеланджело, и я должен стать достойным его, последовательным преемником. Потому что он, безусловно, боготворил Микеланджело. Тогда когда он оказался в Сикстинской капелле перед «Страшным судом», он был потрясён этим вселенским масштабом живописи Микеланджело. Ну, не столько живописи, скажем так в скобках, потому что Микеланджело никогда не считал себя живописцем, а вот этой графики мощной, этой пластики невероятной, этого невероятного воображения бесконечного, этого бесконечного повторения… не повторения, а разнообразных пластических каких-то состояний – этого вот у Микеланджело не отнимешь. И я думаю, что до сегодняшнего дня никто не может сравниться с ним в отображении разных пластических воплощений мощного движения, как это свойственно было Микеланджело – ни одно из движений у него не повторялось. Не случайно эти два пальца являются вообще магическими знаками, которые мы видим, фрагменты росписи потолка, где Бог Саваоф вдыхает жизнь в Адама, который протягивает ему вялую руку, и тот решительным движением сообщает ему импульс. Вообще какое такое прозрение, вот эта энергия, которая… Вообще говоря, вот физика: где концентрируется заряд?
Д.Ю. На кончике.
Александр Таиров. Иглы!
Д.Ю. Да.
Александр Таиров. На кончике иглы смерть кащеева – помните, да? Так вот это то же: вот вся фигура Саваофа, ведь мощь энергии, она вся перетекает вот в этот палец. И то же самое Адам – он воспринимает вяло этот вот… Очень сильный образ, и не случайно этот фрагмент везде фигурирует. И мне кажется, что это впечатление, которое он получил, этот дополнительный импульс, наверное, в какой-то мере вот это имя – Микеланджело и желание быть ему соответствующим, подобным ему, и не то, чтобы не подкачать, но в какой-то мере всё-таки доказать, что он не зря Микеланджело. Кстати, его прозвище – Караваджо возникло как раз потому, что он Микеланджело и Буонаротти Микеланджело, и конечно, народ, так криво усмехаясь, говорит: ну какой же ты Микеланджело? У нас есть уже свой Микеланджело, и вот ты будь Караваджо. Это прозвище «Караваджо» к нему прилипло.
И вот возвращаясь к его детству: отец его был придворным архитектором миланских герцогов Сфорца, и будучи близким к семье Сфорца – была его мать Аратори, она была в какой-то мере дружна с женой герцога. У молодого герцога была ещё более молодая жена, она была в 12-летнем возрасте определена ему в жёны, кстати, она его терпеть не могла, чтобы не сказать, что ненавидела, потому что он, как многие герцоги, и не только герцоги, был большим любителем женщин. Если мы говорим о Генрихе IV, то оказывается, зафиксированных любовниц у Генриха IV было аж 60 штук.
Д.Ю. Молодец какой! У него были большие возможности.
Александр Таиров. У него были деньги, в первую очередь, которые ему позволяли всё это себе позволять, с позволения сказать – вот такая вот тавтология тройная. Ну и естественно, Констанция Колонна звали её, ну представьте себе: она – дочь Колонна, который был командующим флотом, одолевшим турок, на секундочку, в битве при Лепанто – это фигура почти легендарная, представляете…
Д.Ю. Это событие, да!
Александр Таиров. Да-да-да. И вот она – дочь, гордая совершенно итальянка…
Д.Ю. Защитника Европы, да?
Александр Таиров. Да-да-да. И она же не могла этого простить ему. Он, к счастью, если можно вообще говорить – к счастью, ну может быть, к её счастью, рано ушёл из жизни в результате эпидемии чумы, которая была занесена в Милан, и по одним свидетельствам – вот опять противоречие, ну как с этим быть вообще, я не понимаю: одни источники говорят, что отец его Меризи ушёл из жизни в результате эпидемии чумы, и ушли там некоторые родственники по мужской линии, и Сфорца был, кстати говоря, жертвой этой эпидемии. А в других источниках сообщается, что тело его отца Меризи вытащили из реки, карманы его были наполнены камнями, а руки были связаны за спиной верёвкой. Это совершенно 2 разные версии, как они могут уживаться друг с другом? Но они есть – в одних источниках эта, в других письменных источниках эта. И вот как этому верить?
Д.Ю. Не поверю. Скажу вам, как специалист: перво-наперво для того, чтобы как следует утонул, камни надо привязывать, ну как это обычно, на шею к ногам и всякое такое. Камни, насыпанные в карманы, никакого веса не дают. Я вам больше скажу, уже совсем углубляясь в мрачные, так сказать, дебри: желательно выпотрошить внутренности, потому что их раздует, и тело всплывёт даже…
Александр Таиров. С камнями?
Д.Ю. Даже с радиатором чугунным на ногах. Поэтому ещё распотрошить надо, и только тогда…
Александр Таиров. Произошло откровение!
Д.Ю. Камни, насыпанные в карманы – детский сад, ни один человек, который занимается убийствами, такого не сделает. …
Александр Таиров. Здесь мы нашли истину, в конце концов, неожиданным образом, и от этой версии, от этих камней из карманов камня на камне не осталось.
Д.Ю. Гадость хотели про человека сказать, поэтому наговаривали.
Александр Таиров. Ну вот, смотрите, насколько противоречивые сведения – это к слову о том, что данные все разнятся. Итак, отца он лишился в 5-летнем возрасте, этой мужской руки он лишился, которая только и могла обуздать его неуёмный характер. Ну, вообще говоря, из сорванцов получаются великие люди, на самом деле…
Д.Ю. Иногда.
Александр Таиров. Ну, чаще всего, всё-таки… Не будем показывать пальцами.
Д.Ю. Ну, скажем так, бывает очень разное.
Александр Таиров. Да, потому что вот эта неуёмность характера говорит о мощной внутренней энергетике, о вулканическом состоянии внутреннем, и эта энергия, выпирая и находя свои выходы, заставляет человека совершать много различных и порой не очень приемлемых, с точки зрения морали, поступков.
Так вот, он в 5-летнем возрасте лишился, и он был окружён матерью и тётками, которые души в нём не чаяли, ограждали от всяких проблем. Но он воспитывался – возвращаясь к моменту, связанному со шпагой – он воспитывался с детьми, с сыновьями Констанции Колонна, с которой была так или иначе дружна его мать. Мать была не из бедной семьи, она была из семьи землевладельцев, скажем так. И он много времени проводил с этими детьми, и если их учили фехтованию, учили фехтованию и его в т.ч.
Д.Ю. Естественно.
Александр Таиров. Но поскольку он был очень моторным человеком, атлетически развитым и пластически очень приспособленным, он преуспел на этом поприще гораздо больше, чем её сыновья, и прекрасно научился владеть шпагой, кинжалом. Мало того, когда их обучали верховой езде, выездке, он обучился этому в т.ч., и это помогало в дальнейшем ему уносить ноги в седле, если можно так сказать. Он обучился этому в полной мере, и если бы не то обстоятельство, что он проявил определённые наклонности в плане рисования, на которые обращено было внимание Констанции Колонны... И вот смотрите, какая интересная вещь: я снова возвращаюсь, очень часто я возвращаюсь к мысли о том, что в жизни каждого из нас, я об этом часто говорю и для себя это я чётко уяснил, и как бы, с грустью говорю о том, что вот, если говорить, коснуться меня, то этого не происходило в моей жизни – я никогда не встречал в ранней фазе своей жизни человека, который каким-то серьёзным образом меня мог бы направить, понимаете. И я думаю, что это большое счастье, и кстати, когда мы касаемся судеб многих художников, выясняется, что те, которые при всех остальных качествах достигали больших результатов, они обязательно в начальной фазе своей жизни попадали в ситуацию, где кто-то каким-то образом направлял их и обращал внимания на их особенные качества. И вот то, что у него была склонность к рисункам, заметила Колонна, и она, по сути дела, и определила направление, она поспособствовала тому, что был найден учитель – Симоне Петерцано, я о нём чуть позже скажу. Но до этого я хочу сказать, что будучи в семье Колонна, естественно, в аристократической семье, он так или иначе каким-то азам воспитания был научен. И кроме всего прочего, она музицировала, естественно, играла на клавесине, играла на лютне, и она обучила его игре на лютне, между тем, и когда мы помним «Лютниста», мы понимаем, что те музыкальные инструменты, которые он изображал на картинах, они были не случайными, спонтанно схваченными где-то, а это было его увлечение, ибо когда он испытывал трудные, депрессивные моменты, он брал лютню и наигрывал на лютне. И кстати, Бернардино, с которым он познакомился позже, влача очень жалкое существование, Бернардино – брат художника Чезаре д’Арпино, у которого он позже работал, Бернардино любил слушать, как он играет на лютне временами. Т.е. вот эти моменты сочетались, значит, мы можем говорить о том, что так или иначе он в какой-то мере был обучен неким элементам возвышенного, или был причастен к неким элементам возвышенного – музицировал, музыкантом был в той или иной мере, и некоторые художники, судьбы которых проходят перед нашими глазами, они тоже музицировали – например, Энгр великолепно играл на скрипке, и не только Энгр, а, предположим, Сезанн играл, по-моему, на флейте, и есть масса примеров тому, как художники прекрасно музицировали. А перед Энгром вообще стоял вопрос: быть скрипачом или быть художником? Так вот это всё, все элементы, о которых я сейчас говорю, мне кажется, дополняют наше представление о личности Караваджо, когда ему бросается обвинение Бальони или Беллори, его биографом, в том, что он был чуть ли не хулиганом и человеком недостойного поведения, то я думаю, что верить в это обстоятельство нужно с большой осторожностью.
Так вот, возвращаясь к тому, что он своё детство провёл рядом с детьми – это Муцио и Фабрицио, кажется, звали двух детей Колонна. С Фабрицио он позже встретился на Мальте. Муцио, к сожалению, когда он подрос, дядя его – вот этот Колонна известный, адмирал, он отправил в Испанию, чтобы он служил при дворе испанского короля. Он, к сожалению, рано умер, ушёл из жизни, и кстати, к Муцио Караваджо был в большей степени привязан, потому что Фабрицио недолюбливали, между ними возникли некие сложные отношения.
Итак, возвращаясь к этому поединку, в результате которого он убил, мы понимаем, откуда у него владение шпагой. Ведь когда мы говорим о художниках, как мы можем предположить, что он владеет шпагой, что он вообще может участвовать в какой-либо стычке, связанной с применением шпаги? Значит, вот это ставит всё на свои места. Ну, я думаю, его вспыльчивость, на самом деле… может быть, лучше было бы, как мы можем сейчас предполагать, если бы он вообще не владел шпагой – наверное, он не попал бы в эту историю. Но вот интересный момент: его работа «Гадание цыганки» в какой-то мере, если можно в это верить, ведь он сделал эту работу, и он уговорил цыганку позировать лишь потому, что он предложил ей погадать ему, под предлогом того, чтобы она погадала ему, так бы она не стала ему позировать. Он сделал работу«Гадание цыганки» одной из первых жанровых работ. Она ему нагадала, соответственно, что он будет богатым, что у него будет много денег, что он добьётся какого-то положения, что всё в этом смысле у него будет хорошо. «Но, – сказала она, - тебе нужно остерегаться плохих людей, ибо у тебя на ладони короткая линия жизни». И посмотрите: и тут в какой-то момент, тогда, когда он оказался гоним, он вдруг вспомнил об этом. На самом деле, когда она ему об этом сказала, он в это не поверил, и что естественно, на самом деле, хотя я думаю, что разве можно верить в то, что кто-то написал о том, что он в это не поверил? Даже если он при этом кому-то из свидетелей сказал это, то мы же знаем, насколько мы мнительные вообще, ещё такие слова не остаются без внимания, наша впечатлительность, любого человека, когда дело касается сакральных моментов, связанных с его личной жизнью, я думаю, всё-таки это отложилось у него в памяти, какой-то такой рубец внутри остался. Так вот, эту работу он сделал не то, чтобы в споре, с одним из коллекционеров по имени Валентино, французом, прибывшим относительно недавно в Рим, и в качестве второго действующего лица, т.к. у него не было натуры, этот коллекционер предложил своего сына Константино – это, кстати, потом послужило поводом для того, чтобы он ему недоплатил, он сказал: в качестве модели тебе бесплатно работал мой сын. И это было первое полотно, которое как бы задало определённый, как это модно нынче говорить, тренд, направление в искусстве – жанровые работы, а потом это превратилось в т.н. бамбоччо или бодегоны, где изображали простые сценки, о которых мы уже как-то упоминали, говоря о Веласкесе. И здесь он изобразил цыганку, гадающую, взявшую руку парня. Изобразил, более высветил верхнюю часть лиц… т.е. лица высветил и верхнюю часть фигуры, извините за выражение, а это как бы приглушил, но на самом деле он показал, что цыганка, как бы держа ладонь, проникновенным взглядом, а молодой человек, естественно, с красивой цыганкой не может не обратить внимание на неё, был отвлечён этим вниманием, ну и исследователи подчёркивают, что в этот момент она, держа его руку, снимает с его пальца кольцо. Кстати, там же пишется, что когда она уже уходила после позирования, она умыкнула у него флягу вина и какую-то колбасу, которую они приготовили на ужин с Марио Миннити.
Д.Ю. Чисто чтобы навыки не терять, да?
Александр Таиров. Да. По этому поводу его подмастерье возмутился: как же так?! На что Караваджо рассмеялся только, т.е. как-то так легко отнёсся к этому. Т.е. этот эпизод свидетельствует вот ещё о чём – о лёгкости его характера при всём при том, что вот такая внутренняя противоречивость свойственна ему. Тогда я задам вопрос вообще: а вы когда-либо видели человека, внутренне непротиворечивого?
Д.Ю. Нет.
Александр Таиров. Абсолютно таких не существует.
Д.Ю. Достаточно в зеркало посмотреть.
Александр Таиров. Этот дуализм, который нас вообще порой раздирает, когда наши мысли, что называется в простонародье, идут нараскоряку, когда одно оппонирует другому, и твоё второе я, а может быть, третье я вообще делает из тебя полубезумца, он есть у каждого. Но вот это вот отношение Караваджо, мне показалось, что свидетельство лёгкости характера.
Ещё что следует отметить – что он довольно свободно относился к деньгам, он не трепетал над ними, между прочим, и он всегда был готов оказать поддержку друзьям. А то, с какой лёгкостью он расставался с деньгами, когда кутил, говорит о том, что он не был привязан материально ни к чему. Он, по сути дела, за всю свою жизнь, а потом, это подчёркивается исследователями, что он по этому поводу переживал, что у него ни семьи, ни кола, ни двора, условно говоря, нет, и при всех тех деньгах, которые потом прошли через его руки, он ничего, по сути дела, не приобрёл, никакой недвижимости, тогда когда другие художники, менее успешные, скажем, строили себе дома, мастерские и т.д.
Д.Ю. Н, тут уж кто чего хотел, кто к чему стремился.
Александр Таиров. Да, и вот это обстоятельство подчёркивает ещё одно важное качество, о котором я упомянул – лёгкость характера и непривязанность его к каким-то материальным стимулам, материальным вещам. Да, деньги были нужны человеку, пережившему нищету, ведь когда он впервые попал в Рим, его дядя Лодовико Меризи, он был пастором, определил по знакомству его к Пандольфо Пуччи некоему прелату, который отвечал за римский дворец Колонна, выполнял какие-то мутные функции ответственного за это дворец, а в то же время он занимался, приторговывал картинами, покупая дешёво и перепродавая, и в т.ч. он поддерживал художников, выделяя им кров и пищу. И вот, кстати говоря, Лодовико Меризи определил, и это уже первый шаг встраивания в Рим, в социум Рима Караваджо. До этого я коснулся Симоне Петерцано, о котором я говорил, теперь нужно сказать следующее: ему повезло с Констанцией Колона, которая определила, что он рисует, нашла ему педагога и договорилась о том, что он там будет работать у педагога, и там был заключён контракт, по-моему, на 4 или 5 лет, где он должен был учиться, но мы не скажем ничего, если мы не скажем о самом важном: Симоне Петерцано был учеником Тициана. Разве нужно что-либо ещё говорить? Представьте себе. И он попал к нему в ученики. Кто бы из художников не мечтал бы стать учеником хотя бы ученика Тициана? И вот это ещё один фактор, в котором ему повезло: Констанция Колонна, ученик Тициана, и надо сказать, что тот обладал прекрасными педагогическими способностями, изумительными навыками, был прекрасным художником, и он обучил его многим премудростям. Надо ведь заметить, что профессия художника того времени, да и нынче тоже, предполагает прекрасные знания свойств материалов, а особенно тогда, когда там не было красок в тюбиках, когда там были ингредиенты отдельные, которые надо было толочь до какой-то определённой консистенции, выбирать их соответствующие смеси, и т.д. Он этому обучился.
Д.Ю. Химик, по сути дела.
Александр Таиров. Да, по сути дела, он в какой-то степени стал химиком или, условно говоря, алхимиком, потому что только они занимались этими вещами. Т.е. он обучился анатомии, обучился приёмам живописи, всем технологическим особенностям,. т.е. он получил прекрасную школу, которая позволила ему в дальнейшем на первых порах работать в Милане. В Милане он достаточно неплохо устроился и пользовался даже некоторым успехом. Но что интересно: картин миланского периода не осталось ни одной, хотя он некоторое время там работал. И ещё следует заметить, важное обстоятельство – что в ту пору вообще для художника очень важный был момент – знакомство с работами разных направлений художественных школ, и это понимал Петерцано. В этом смысле это тоже момент, который следует отметить: Петерцано провёз его по многим городам Италии в один из моментов, где он познакомился с разными школами, он ходил по храмам, знакомился – только там он мог познакомиться с работами. И самое большое впечатление на него произвела поездка в Венецию, где впервые перед ним предстали работы великолепного Тициана, вот этот вот в деи-Фрари, где он сделал «Ассунту (Возносящуюся)» - 7-метровую работу с 3-метровыми фигурами, совершенно потрясающую работу, которая тогда, когда она была вывешена, стала вообще предметом поклонения всей Венеции, собрала всю Венецию и вызвала восторг у всех венецианцев. И он много раз приходил, смотрел на эту работу, восторгаясь и впитывая буквально всеми фибрами своей души этот великолепный колорит, колористику всю эту, ну я уж не говорю о Тинторетто, о Паоло Веронезе, кстати, свидетелем похорон которого он являлся – он вместе с Симоне Петерцано присутствовал на похоронах Паоло Веронезе, которого хорошо знал Симоне Петерцано, поскольку он был выходцем из Венеции.
Венеция произвела на него оглушительное впечатление, они как раз попали то ли в карнавал, то ли в заключительную фазу карнавала, и окунулись во всё это празднество, а Венеция вообще считалась самой блистательной частью этой лоскутной Италии, городом-государством, и она была наиболее вольнолюбивая и свободолюбивая, и наиболее демократичная из всех. И этот карнавал венецианский отличался тем, что когда они прятались под масками, нельзя было отличить простолюдина от аристократа, все были равны в этом всём коловращении. Это, конечно, не могло не сказаться на впечатлительном Караваджо. Ну и естественно, Караваджо не был бы самим собой, если бы он не посещал злачные места, не познакомился бы с теми или иными проявлениями этих злачных мест. Может, там были и лёгкие наркотики – кто знает? Об этом никто не писал. Ну естественно, напитки алкогольные, само собой, ну и девицы лёгкого поведения – я думаю, он не избегнул этой участи. Но в какой-то момент Симоне Петерцано понял, что если он ещё там его продержит, то он…
Д.Ю. Не вернётся. Мы его теряем, да?
Александр Таиров. Мы его теряем! И он вопреки его желаниям, вопреки его протестам увёз его оттуда и сохранил, так сказать. Он вообще его пестовал и оказывал ему большое внимание в силу того, что именно Констанция Колонна оказывала покровительство ему, это тоже влияло. И несмотря на зависть соучеников и всех остальных подмастерьев, он каким-то образом его опекал отдельно и не позволял им как-то… Хотя и сам Караваджо не давал себя в обиду, мягко скажем, он был достаточно человеком, наделенным бойцовскими качествами, и в этом смысле он проявлял себя и тогда, когда он был в ученичестве у Петерцано, и тогда, когда он был в Риме, тоже спуску никому не давал. Ну и вот это в совокупности, его неукротимость, его свободолюбивая натура вызывала, наверное, некое такое отторжение, некую зависть у каких-то жеманных художников. Потому что, когда он учился, вернее, работал у Чезаре д’Арпино, о котором я упоминал, братом которого был Бернардино, тоже был в мастерской, то Чезаре д’Арпино – это явление такого порядка: он был приближён к Папскому двору, работал по заказам Папского двора, но работал он как – он содержал мастерскую, с чем мы уже сталкивались, он содержал мастерскую и подписывал большей частью работы, все остальные работали на него, все художники, которые были там. Ну естественно, он там какие-то заключительные мазки делал, подставил свою подпись, по сути дела, был таким менеджером, ловким дельцом, который пользовался услугами всех остальных, у него было…
Д.Ю. Ничто не ново, да?
Александр Таиров. Да, абсолютно. И ну вот у нас есть такой пример в Москве – художник один, который создаёт монументы и т.д., не будем называть его имени, но он где-то в таком ключе работает.
Д.Ю. Бомбил, да?
Александр Таиров. Вот, и он принял его, Христа ради. Ну, не совсем Христа ради, потому что он видел, какого уровня художник. Но он ему не давал воли, он держал его в чёрном теле, заставлял писать натюрморты, иногда лица писать, но Караваджо до времени терпел, и терпел унижения, поскольку я так представляю себе, что этот кавалер д’Арпино – кавалер!, он уже дворянин, ему было пожаловано дворянство, он, соответственно, одевался всегда с иголочки, всё время был в перчаточках, ну в общем, был таким денди. Но вместе с тем, вот смотрите, Караваджо же инкриминируется, что он был человеком нетрадиционной ориентации. Вот помните, мы говорили о Босхе – ему тоже это вменялось, и очень много таких случаев, когда вдруг начинают приклеивать такие ярлыки. Я не к тому, что я пытаюсь утверждать обратное, но в то же время я не хочу подтверждать это, потому что у него на протяжении его жизни была не одна девушка, и это как бы ставит под сомнение правдоподобность этого утверждения. Так вот, он, будучи у Чезаре д’Арпино, а Чезаре д’Арпино отличался как раз вот этими качествами – нетрадиционной ориентацией, вместе со своим Марио Миннити, подмастерьем, очень красивым парнем, кстати, который был моделью его, где он изображал юношу с фруктами, потом «Вакха» он с него делал, и во многих ситуациях там, скажем, картина «Музыканты» - он тоже на первом плане там, Марио Миннити. У него были с ним прекрасные отношения, и то, что он брал его всегда с собой, где бы он ни создавал мастерскую, дает основание некоторым предполагать, что именно с Марио Миннити у него были какие-то такие специфические отношения. Но понимаете, времени прошло много, и все эти досужие измышления, на мой взгляд, нуждаются в какой-то достаточной корректировке, и я внутренне с этим не согласен, хотя и не склонен утверждать однозначно обратного, потому что, помните, я говорил, что вряд ли кто-либо имеет право, когда говорит об искусстве, о таких тонких материях, может утверждать что-то со 100%-ной уверенностью, что это именно так, и никак иначе. Поэтому могло быть, но я склонен это не считать за основание.
Д.Ю. Мне в таких случаях всегда интересно: это оказывает какое-то влияние на содержание работ? У некоторых, безусловно, оказывает, тут я что-то не вижу.
Александр Таиров. Ну да, конечно. Когда мы говорим о Чайковском или ещё, не знаю, о ком-то…
Д.Ю. Что это меняет в музыке Чайковского?
Александр Таиров. Что это меняет, да?
Д.Ю. Хотя говорят, что Чайковский такими делами не увлекался. А если бы увлекался, музыка стала бы хуже, мне вот интересно всегда? Возьмём совсем попсовый пример: вот небезызвестный исполнитель группы «Queen» Фредди Меркьюри.
Александр Таиров. Да, Фредди Меркьюри и этот…
Д.Ю. Когда все узнали, песни стали хуже?
Александр Таиров. Нет, абсолютно.
Д.Ю. Я как-то теряюсь.
Александр Таиров. Но Джордж Майкл этот же, недавно ушедший из жизни – ну тут совершенно откровенно всё было, и он был любовником Элтона Джона…
Д.Ю. И не таился, да?
Александр Таиров. Да. Но в конце… мы же не это обсуждаем в данном случае, мы просто разграничиваем эти моменты. Когда я говорю о Караваджо, это для меня не является существенным, и в то же время есть факты, которые подтверждают как раз обратное – на этом я и делаю акцент.
Д.Ю. Я бы другое сказал: вот вы про этого Бальони – да, я правильно запомнил?
Александр Таиров. Да, Бальони.
Д.Ю. Ну, человек его откровенно… Человек ему откровенно завидовал, успех всегда вызывает зависть и, не побоюсь такого слова, ненависть: ведь я же, гениальный-то – это я, а досталось всё этому барбосу, ни за что, злая шутка судьбы. Соответственно, каждый будет норовить какую-нибудь гадость сказать, чтобы хоть чуть-чуть… Бросай дерьма побольше – что-нибудь да прилетит.
Александр Таиров. А к этому нужно добавить вот ещё обстоятельство: он был невысокого роста и некрасив внешне, т.е. как бы были все причины, поводы его не любить, что он такой неказистый…
Д.Ю. Хотя бы его ущипнуть как-то.
Александр Таиров. Да, и этот Бальони – они в дальнейшем там и сталкивались по поводу одного заказа, где Бальони был отодвинут в сторону, и этот заказ был отдан и блистательно исполнен…
Д.Ю. Надо было присмотреться к этому Бальони – уж не он ли страдал известными склонностями и от зависти всё это приписывал?
Александр Таиров. Во всяком случае, Чезаре д’Арпино совершенно точно страдал этими наклонностями, и более того, следует заметить ещё то обстоятельство, что благодаря, наверное, многочисленным завистникам его же не приняли в общество Св.Луки – это своеобразный Союз художников. Некий Цуккаро возглавлял это общество и категорически на дух не переносил. Ну, они почему ещё не переносили – потому что Караваджо-то был вообще первооткрывателем, он был авангардистом того времени, представьте себе, и вот такое, и ещё то обстоятельство, что это и принимается, и ему даются заказы. Ведь первый большой заказ он получил то, о чём он мечтал – это картина, о которой я упоминал, это собор Сан-Луиджи-деи-Франчези – вот так он назывался, там была капелла Кантарелли, для которой он, собственно, этот заказ и выполнял по завещанию этого самого Кантарелли, разбогатевшего в своё время кардинала. И для него он сделал вот это вот «Призвание Матфея», и вторая работа, сейчас вспомню, как она называлась… «Призвание Матфея», «Убиение Матфея» и «Матфей и Ангел» - вот эти три работы он выполнил, большого размера, не приняли только «Матфея и Ангела», поскольку он выполнил её уж явно не канонически. А «Убиение Матфея» и «Призвание Матфея» он выполнил, их приняли, так или иначе, они были выставлены там при большом стечении народа, и он произвёл невероятное впечатление своими работами, своей убедительностью, своей силой драматизма, которую содержали в себе эти работы. И когда мы смотрим, если первая работа подчёркивает драматизм момента неожиданности происходящего события, неожиданности посвящения этого Левия Матфея, сборщика податей, и избрания его в качестве фигуры, приближённой к Христу, то вторая картина, или она третья, допустим – «Матфей и Ангел», я не касаюсь её сейчас, а там где происходит убиение Матфея, там все фигуры буквально напряжены движением, и он изображён лежащим, и фигура человека, убивающего его, вот-вот убьющего его, она наполнена мощной динамикой. Единственное, на что бы я хотел обратить внимание в качестве какого-то не критического… потому что ему, кстати говоря, иногда бросаются упрёки в некой небрежности его работ, которые объясняют, может быть, некоторой поспешностью при выполнении этих работ, может быть, какими-то другими обстоятельствами, потому что интересен тот факт, что за 20 лет он совершил огромный рывок, он создал бесконечно большое количество работ, значительная часть которых, как это всегда водится в то время, да и не только в то время, они не остались в истории, они были уничтожены в результате землетрясений, пожаров и по другим причинам куда-то исчезли работы, но тем не менее вот эти вот 2 работы явили миру новое направление в живописи, нового художника, ошеломившего всех современников, и если его собратья, не все собратья, а значительная их часть не приняла этого, поскольку она мыслила категориями прежними – маньеризма, категориями классического прекрасного искусства. То, что он изобразил, оно буквально обращало внимания на улицу, где он, собственно, и набирал своих персонажей. Когда ему говорили: есть возвышенное, есть эпоха Возрождения, есть Рафаэль, в конце концов, с гением которого он соглашался, но мы же не можем, если мы говорим о движении вперёд, идти, осуществлять движение вперёд с повёрнутой назад головой. И он говорил, что это всё уже не сегодняшний день. Предметы для своего творчества он находит там, на улице, показав вон пальцем туда. И действительно, всё то, что он потом делал, он брал примеры с улицы. Мало того, он себе позволял ведь… что он себе позволял – ведь когда он писал, допустим, «Марию с чётками» и там поклоняющихся ей пилигримов, предположим, обращённых спиной, кстати, к зрителю и своими босыми пятками, то он позволил себе показать грязные пятки их. Понимаете, что это вообще было непозволительно, ту там же... И тогда возникает вопрос: а что, он должен был предварительно попросить их помыть ноги, или эти поклоняющиеся пришли с улицы и вымыли предварительно ноги, прежде чем поклониться? Они бухнулись в ноги, да…
Д.Ю. Выглядело бы отлично, да.
Александр Таиров. И мало того, он на том полотне изобразил ту самую Фелиду Меландроне, любовницу Винченцо Джустиниани, на минуточку,. банкира-генуэзца. Она же была девица лёгкого поведения несмотря на то, что Джуситиниани снял для неё комнату, естественно, обеспечил ей какие-то превосходные условия существования, вместе с тем она понятно, откуда вышла, она потом туда и вошла снова, туда, собственно говоря, и окунулась вновь, в эту жизнь. И он её взял в качестве модели для Марии, и потом, когда было разбирательство, он говорит: «Вы кого тут изобразили?» Он: «Девицу,» - говорит. «Что за девицу?» - «Это хорошая девица». Соответственно, все знали, кто она, на самом деле. Вот представляете: дева Мария, а моделью для ней он взял девицу лёгкого поведения, мало того, с внебрачным ребёнком, которого она держала на руках, между прочим, на минутку.
Д.Ю. Т.е. церковь всё-таки напрягалась, да, глядя на такое?
Александр Таиров. Ну естественно! И если в какой-то момент они как бы приняли эту работу, то потом они вынуждены были… не вынуждены, а изъяли решительно изо всех мест общественного поклонения эти работы. И когда смотришь на эту работу, действительно, красавица, величественно изображена, великолепно изображена картина, и все эти вещи, почему они настолько были убедительны – потому что он умел это выстроить драматически так, что это было очень жизненно: они вот-вот могли бы начать шевелиться, начать двигаться. Ведь правильно Станиславский говорил актёрам, что ты должен представить себе, что было за секунду до того, что ты сейчас делаешь, что сейчас делаешь, и что будет после, потому что ты изображаешь это в динамике, ты понимаешь, что происходит. Я думаю, что в его картинах как раз это и присутствует – когда ты вглядываешься, когда ты вживаешься в этот образ, и понимаете, даже взять того «Матфея», потом буду ещё о картинах говорить, и эту же «Марию», и это же «Убиение Матфея», когда там все фигуры находятся в движении удивительным образом, этот занесший шпагу или меч над низвергнутым Матфеем и лежащим в безвыходном положении, он вот-вот сейчас её вонзит, и все те, кто изображены, они находятся в каком-то отношении к происходящему моменту, там всё это очевидно. И главное, ещё интересно – он изобразил свой автопортрет в глубине этой картины, искажённый состоянием сострадания и безнадёжности момента, там он себя изобразил в этом качестве. И один из действующих лиц в порыве вот-вот сейчас выхватит шпагу, но видно всё по ситуации, что всё, это безнадёжная ситуация, и сейчас это свершится. Это всё выполнено им в таком драматическом контексте, в таком драматическом противопоставлении и сопоставлении, и ангел с неба – единственное, в чём он отдал дань библейским сюжетам – спускает сухую пальмовую ветвь, как символ страдания, Матфею. Вот единственное, что оттуда.
А ещё что ему вменяли – вот этот реализм, натурализм содержал в себе исключительно бытовые моменты, что будто реально происходит. Там нет каких-то моментов запредельного свойства, где ты понимаешь, что это всё не земное, всё это не из жизни, а это из какого-то другого мира – мира волшебства, горнего мира в чистом виде, т.е. немножечко такой… Почему маньеризм – потому что всё в таком нереальном, неземном состоянии, ведь религия о чём свидетельствовала – что всё то, что происходило, это всё за пределами реального представления, реального мира. Ведь когда возникла контрреформация, Тридентский собор в страхе перед наступившей реформацией, когда отвергалось всё, изображения всякие отвергались, как суетные, и где протестанты говорили, что в храмах не должно быть ничего, отвлекающего внимание, что всё это, вся эта роскошь католическая, Папская роскошь не имеет отношения к подлинному верованию. И вот испугавшись этого и стремясь удержать эту власть, на Тридентском соборе было положено начало этой самой контрреформации, обострившейся в период, когда жил Караваджо. Ведь при Караваджо же казнили, собственно говоря, Джордано Бруно небезызвестного, и он был, по определённым свидетельствам, очевидцем этого события.
Более того, я вам хочу сказать следующее: когда мы говорим, его называют грубым, неотёсанным, по определённым свидетельствам, мы не должны сбрасывать со счетов то обстоятельство, что когда он находился под покровительством кардинала Франческо дель Монте, он, по сути дела, попал в условия… Франческо дель Монте, братом его был Гвидобальдо дель Монте. Если Франческо дель Монте был кардиналом, он был послом тосканского герцога Фердинанда I Медичи и занимал огромный дворец, который назывался Мадама, в самом центре Рима. Это дворец, в котором сейчас заседает, хочу вам заметить, итальянский парламент, ни много ни мало, вот этот дворец Мадама. И в этом дворце было 200 слуг, ни много ни мало.
Д.Ю. Неплохо!
Александр Таиров. Неслабо, да? Которые обслуживали практически этих двух человек – его и его брата Гвидобальдо. Его брата отличало следующее: брат был старше него, и брат занимался исключительно научными изысканиями – математикой, он даже писал труд какой-то научный, который так он или не завершил, или он был не опубликован. Но следует сказать следующее, извините за тавтологию, что он сосредотачивал, или окружил себя светлейшими умами того времени, он создал своего рода академию, подобную тому, как создал Лоренцо Великолепный, Лоренцо Медичи. Вы знаете, когда такие моменты возникают в моём представлении, и когда ты понимаешь, что Караваджо, которому они выделили огромное помещение под мастерскую, и в течение 5 лет он там работал, он довольно много времени порой проводил на половине Гвидобальдо и был свидетелем разговоров и Галилея, бывшего гостем Гвидобальдо, и дела Порта – это писатель и учёный, и Томазо Кампанелла был там же…
Д.Ю. Однако!
Александр Таиров. Можете себе представить, ну и другие имена, которые мы не знаем. Он был свидетелем, он не был прямым участником этих разговоров, но при нём всё это происходило. Во всяком случае, у него были разговоры с Гвидобальдо дель Монте, умнейшим человеком, невероятно эрудированным. И когда мы понимаем, что это были его университеты, и когда о нём говорят, как о неотёсанном, мы должны относиться к этому с известной долей поправки, и значит, мы понимаем, что человек так или иначе…
А подчёркивалось ещё, что когда он учился у Симоне Петерцано, он схватывал очень быстро, он мгновенно всё схватывал, была невероятно восприимчивая натура, ну я так полагаю, как губка, поскольку он был впечатлительным, был очень эмоциональным, был тонкой натурой, значит, и тогда он это всё схватывал, и тогда, когда он странствовал по городам вместе с Петерцано, а это же были ещё и беседы, это же были ещё и какие-то… обмен мнениями, и с какими-то людьми, и даже есть предположение, что он встречался с блистательным композитором Монте Верди в Венеции, и общался с ним, и слушал его музыку, а поскольку он был склонен к музицированию, значит, так или иначе, есть такие предположения. Мало того, что когда он попал однажды за какой-то проступок в тюрьму Торре ди Нона, там же сидел Джордано Бруно, и есть предположение, что они провели несколько ночей и дней в постоянных разговорах, где обсуждали свет и тень, что тень, по сути дела, рождает свет, что свет является обратной стороной тени и через тень можно подчеркнуть свет. Т.е. понимаете, вот эти теоретические изыскания – Джордано Бруно был умнейшим человеком – и вот всё вместе, мне кажется, повлияло на формирование личности, как личности, будем говорить, Караваджо. Вот эти ступени, которые он проходил, я думаю, вырисовывают перед нами фигуру человека разносторонне одарённого, на самом деле, и вобравшего в себя всё то, что было на тот момент лучшего. И мало того, он прошёл же университеты тогда, когда он ушёл от Пуччи в конце концов, который ему надоел, помните, Пандольфо Пуччи его эксплуатировал? А кормил Пандольфо Пуччи всех своих вот, кого он опекал…
Д.Ю. Работали за еду, да?
Александр Таиров. Да, но за какую еду – он кормил их корнеплодами и зеленью, салатами. Они даже назвали его «монсеньор Салат».
Д.Ю. Синьор Помидор, да?
Александр Таиров. Да, в какой-то мере. И вот он от него, несмотря ни на что, вынужден был бежать, может, потом он и жалел, но тем не менее, он окунулся на самое дно Рима и бродил порой полуголодный, грелся у костров вместе с бродягами. Не знаю, через какие испытания он прошёл. Вообще говоря, безгрешен и свят, мы говорили, не тот, кто не грешил, а кто согрешил и покаялся, кто прошёл через эти испытания, кто узнал, кто вкусил всю меру несчастий и дна. И вот мне кажется, что он это понял, через это пройдя, он понял весь этот срез бытования тогда в этом блистательном Риме, где, с одной стороны, был блистательный Папский двор, Папские, как они назывались, гвардейцы, которые по сей день ходят в костюмах, эскизы к которым сделал великий Микеланджело Буонаротти, вся эта аристократия, и вот эту предельную нищету плебса. А ничего не ново – сейчас мы видим роскошь одних и убожество других, стоит отъехать от наших городов чуть-чуть, на небольшое расстояние, и мы окунёмся.
Д.Ю. Да и в городе можно за угол зайти и тоже увидеть.
Александр Таиров. Да, это увидеть, и вот эта вот роскошь Папского двора. И я думаю, что когда он создавал свои полотна, он опирался как раз на те впечатления, которые он получил, будучи на дне. Даже однажды был случай, который описан, когда он был на какой-то мессе, которую осуществлял Климент VIII в Санта-Мария-делла-Валичелла назывался храм, он там потерял сознание и очнулся оттого, что кто-то ему дал корку, поднял его с пола, и он, шатаясь, вышел из храма. Т.е.он даже голодал до такой степени, что терял сознание. И благодаря тому, что он встретил небезызвестного Бернардино, о котором я упоминал, он всё-таки попал к Чезаре д’Арпино, и там он начал проявлять себя, и там, несмотря на то, что тот заставлял его писать то, что ему нужно, он всё равно писал для себя какие-то картинки. И вот одна из картинок, где он изобразил и натюрморт, и портрет молодого человека – Миннити, попала на глаза Чезаре д’Арпино, и он присвоил её себе, сказал, что он берёт её в плату за то, что он его кормит, одевает - не одевает, не знаю, даёт ему краски, и т.д. И эту работу, кстати, увидел, по-моему, Дель Монте, если я не ошибаюсь, в общем, кто-то из известных коллекционеров, и уже тогда обратили внимание. И уже потом однажды, а он уже к тому времени познакомился со своими земляками миланскими, там, как всегда бывает в столицах, есть определённые землячества, Онорио Лонги фамилия, братья Онорио и Децио Лонги – они сыновья архитектора,. который строил какие-то здания в Риме. И Онорио Лонги был таким достаточно агрессивным парнем, забияка такой, и подчёркивается, что часто именно он был инициатором всех тех скандалов, в которые попадал и Караваджо, будучи восприимчивой, вспыльчивой натурой. И вот Онорио Лонги вместе с братом нашли его однажды в его каморке, лежащим без сознания – он тяжело заболел малярией. Надо сказать, что бичом Рима того времени была эта самая малярия, потому что были Понтийские болота небезызвестные, и в своё время один из Пап, а это, по-моему, Сикст V пытался бороться, но сам пал жертвой, кстати говоря, этой же малярии.
Д.Ю. Поди, заборол-то только Муссолини какой-нибудь, да?
Александр Таиров. Вот это я не могу утверждать. И найдя его ночью, это было воскресенье, они отвезли его в госпиталь Санта-Мария-делла-Консолацьоне, мы знаем, что госпитали были при вот таких вот учреждениях, и оставили его там рядом с мертвецкой. Воскресный день, он рядом с мертвецкой, и если бы ему опять не повезло, потому что приором был Камилло Кастельярес, такой испанский монах, и он видел его работы у Пандольфо Пуччи, он видел его там. И вот благодаря этому обстоятельству он спасся – Касьтельярес определил ему отдельные условия, он его там нашёл, а иначе бы Караваджо там бы и кончился бы, и прикрепил к нему двух сиделок и назначил ему такое активное лечение травами, и всё. И он долго, кстати, приходил в себя, наконец поднялся и, будучи очень слабым, попросил кисть и краски, и вот тут-то понятно, почему Кастельярес, помимо милосердия, оказал ему внимание – Кастельярес… и всегда потом, когда бы он к кому бы ни попадал, в первую очередь, как бы, люди оказывали ему внимание, приглашали его, давали кров и всё остальное, но всегда при этом преследовалась определённая цель выгоды. И Кастельярес, конечно, был не исключением.
Д.Ю. Мир чистогана, да.
Александр Таиров. Что-то было, потому что картины, они понимали же ценность картин и всего остального. И он написал несколько картин, которые потом Кастельярес увёз с собой в Испанию, которые, наряду с другими картинами, совершенно точно оказали влияние на Веласкеса, который не мог их не видеть. И вот это тенебросо веласкесовское, оно вот отсюда, собственно говоря. Видите, какие интересные связи прослеживаются?
И в один из моментов он там обратил внимание, Караваджо, на некую Лючию, монашку, которая в т.ч., наверное, каким-то образом поддерживала его и врачевала, может быть, и мало того, что ну… он молодой парень, совершенно молодая девушка – он не мог не влюбиться или испытывал какой-то интерес, и как это часто бывает у художников, они под соусом того, что «дайте я вам напишу ваш портрет» стремятся сблизиться с человеком. Ну, это же дело молодое.
Д.Ю. Сейчас этим же занимаются фотографы.
Александр Таиров. Ой, фотографы это очень любят делать, и первое, что они предлагают, как часто бывает: ну давайте мы сначала одетыми, а давайте, вы немного обнажите часть тела…
Д.Ю. Немного, да?
Александр Таиров. Да, вот это окно Овертона т.н., оно срабатывает…
Д.Ю. Умело открывает фотограф!
Александр Таиров. Да, и так шаг за шагом, потом смотришь кучу обнажённых этих самых, думаешь: как они соглашаются на такие вот…? Вроде бы девочки приличные с виду, но вот эта вот любовь к самому себе и запечатлевание себя: пропадаю же! Надо же, чтобы все видели это всё! И кстати, он поступил таким же манером – он начал её писать, а потом попросил обнажить её плечо.
Д.Ю. Монашку?
Александр Таиров. Да. Ну во-первых, перед тем, как позировать, она попросила благословения Кастельяреса. Ну а Кастельярес: почему нет? Он получает картину! Но увы – в этот момент заскочил тот самый Рануччо Томассони, сестрой которого она была. Вспомним то, о чём я говорил – кого он убил ударом в пах. А поскольку он же был фигурой-то неслабой, они вообще вместе с пятью братьями делили центральную часть Рима.
Д.Ю. Серьёзно.
Александр Таиров. Да, да, конечно. Это знакомо очень по нашим недавним и сегодняшним, может быть, временам, т.е. они были влиятельными особами, и видя такое, а это же Италия, на минуточку, вспомним, да…
Д.Ю. Как ни крути – страна католическая.
Александр Таиров. Да, так она и сейчас – никакой брат не позволит вот такие вещи. Он выхватил кинжал, полоснул по холсту. Благо, оказался рядом Кастельярес, он тут же велел дюжим монахам скрутить и выставить его. Лючия, естественно, убежала, и больше её там никто не видел. Одним словом, вот такой эпизод был с Рануччо Томассони, теперь мы понимаем. Посмотрите, как интересно перекликаются обстоятельства и события. Не случайно я обратил ваше внимание на Рануччо Томассони, вот такой эпизод был. В конце концов он вышел из госпиталя, и уже его друзья, и он сам не захотел возвращаться к Чезаре д’Арпино, о чём тот, конечно, сожалел, потому что он получил большой заказ и очень нуждался в его присутствии, но увы, Караваджо принял решение и уже к нему больше не вернулся.
И тут подвернулся через знакомых Петерцано некий тоже. Вот как-то у него со священниками постоянно взаимодействие было – монсеньор прелат Петерцано. Но Петерцано был гораздо благосклоннее и добрее, он выделил им вместе с его моделью Марио Миннити комнату и в качестве мастерской подвал, помните, о котором я говорил – вот это всё произошло тогда. И тогда-то, собственно, он уже начал писать те работы, которые привлекли внимание коллекционеров – этого самого Валентино и того же самого Дель Монте, который уже выделил ему отдельно то помещение в своём дворце. Но это было, как тогда выражались исследователи, «золотой клеткой», т.е. он был вынужден подчиняться распорядку, когда всё запиралось после определённого времени, и никто не мог ни войти, ни выйти, потому что ворота запирались, и всё. Но, тем не менее, он не мог оставаться в этой ситуации, и конечно, вылезал из окна и ночами странствовал по злачным местам, по кабакам. Но всё равно кардинал Дель Монте взял его в ежовые рукавицы, озадачил его кучей работы, и массу работ уже он сделал под влиянием, под непосредственным надзором кардинала Дель Монте, где он вынужден был работать, во-первых, в оплату за услуги, ну и во-вторых, он наконец получил кров, питание и соответствующие условия для работы, где ему давался карт-бланш: ты только пиши. И он, естественно, пополнил коллекцию Дель Монте, в т.ч., кстати, и «Лютнистом», где он: «Вы знаете, как я вас люблю» - там текст прямо на нотах этого лютниста. Кстати, «Лютнист» долгое время… а позировал для «Лютниста» один из… Вот интересно – Дель Монте содержал хор мальчиков, и Дель Монте любил их.
Д.Ю. В хорошем смысле?
Александр Таиров. Ну, кто как посмотрит на эти обстоятельства. Дело в том, что ни одной женщины у него во дворце не было – он их на дух не переносил. Я прошу извинения перед женской половиной…
Д.Ю. Ну, это такое да…
Александр Таиров. Ну я же не виноват, я просто рассказываю о том, что было. И вот, у него там был… А там были ещё кроме всего мальчики-кастраты, которые пели контральтовыми голосами.
Д.Ю. Я кстати, извините, перебью, я всё время думал, что это бедствие, в общем-то – кастрировали, а оказалось, родители в очередь стояли, чтобы их чадо кастрировали, и оно получило серьёзное будущее.
Александр Таиров. Ну это естественно, да, во-первых это…
Д.Ю. Деньги огромные.
Александр Таиров. Ценилось, любили слушать мальчиков-кастратов, и вот есть свидетельство о том, что… как же его звали, сейчас я не помню… ну, вы можете найти, конечно, слушатели могут найти его имя – в общем, он позировал для этой картины «Лютнист», и поскольку он был очень красивый и женственный, это долгое время было причиной того, что не могли атрибутировать, это мальчик или… и называли то ли «Лютнистка», то ли «Лютнист», и в гораздо более позднее время всё-таки нашли подтверждение тому, что именно он позировал для этой картины. Но вообще я ещё хочу сказать вот что: когда он писал мальчиков, Дель Монте это очень нравилось, и на самом деле, когда он первого мальчика ему показал, он говорит: «Всё хорошо, только сделай его немного красивее, немного изящнее, он должен быть вот таким». Ну и тут, конечно, сквозили определённые его наклонности и определённое стремление, желание видеть то, что он хотел видеть. Почему, собственно, вот эта серия его мальчиков, его музыкантов и т.д. инкриминируется и вменяется ему, как его пристрастие? На самом деле, это были заказчики. Вообще интересно: Климент VIII, когда пришёл к власти, он начал борьбу, во-первых, с проституцией, загнав их в определённый район под названием Артаччо, огороженный забором, который запирался после определённого времени, и если кто из них, из дам этих оказывался за пределами…
Д.Ю. В самоволке, да?
Александр Таиров. Да, в самоволке, то на следующий день её провозили по всему Риму, и каждый имел возможность, если хотел, мог её пороть на улице прилюдно. И после этого их называли «фрустата» - «поротая». И надо сказать, что Караваджо, когда у него была в подружках Анна Бьянкини, часто ночевал там, ну или было несколько раз, когда он там ночевал, вынужден был заночёвывать.
Д.Ю. Я представляю: в одну сторону через забор, в другую сторону…
Александр Таиров. А там ещё подчёркивается, что те, кто отвечал вот за эту ограду и кто собирал там налоги, очень часто пользовались своими правами получать бесплатно услуги вот этих… Но с этой Анной Бьянкини он познакомился на площади Навона, там была таверна, «Туркотто» называлась, по-моему, где он её впервые увидел, и он неоднократно стал там бывать и познакомился, сошелся с нею поближе, а однажды он спас её от поползновений одного пьяного человека, который схватил её за волосы, когда она отказалась пойти с ним, обозвал её «поротой» - «фрустатой», как я уже говорил, и Караваджо, будучи мужчиной недюжинной силы и отчаянной храбрости, отбил её и выставил этого… Он вообще терпеть не мог этих рослых… а я вам должен сказать, что, конечно, есть тут один момент психологический, наверное, который позволяет людям невысоким добиваться результатов – как способ противопоставления себя людям превосходящим. И в этом смысле я иногда испытывал то, что испытывают они, потому что когда ты находишься в транспорте или в общественном месте с человеком, который выше тебя, ты вольно или… ну, я, вроде, не низкий – 1,82 м, но когда стоишь рядом с более высоким человеком, ты чувствуешь некую свою ущемлённость, и я думаю, что это обстоятельство объясняет, что для Караваджо этот момент ещё был дополнительным элементом, дополнительным стимулом, который позволял ему, или благодаря которому он стремился самоутвердиться. Это и Наполеон – помните его ситуацию, когда с одним из маршалов он шёл или генералов, и когда тот сказал ему, что я выше вас. Наполеон ему ответил: «Не выше, а длиннее, и ещё вы можете лишиться этого преимущества». Вот, этот, наверное, момент всегда присутствует у людей невысокого роста. При этом понятно, что он остаётся человеком, полным достоинства, и вот тот, который претендовал на Анну, он был высокого роста, и он его выставил. И с тех пор они сошлись очень близко с Анной, которая часто бывала у него в мастерской, болтала, ну и естественно, это была его подруга, и что интересно: она позировала для картины «Кающаяся Мария Магдалена», причём он её сделал нетрадиционно. Есть такая картина «Кающаяся Мария Магдалена», где она в такой полудрёме находится, где у неё валяется натюрморт, её ожерелье, ещё что-то, сосуд какой-то… И опять ему инкриминировалось, вменялось в вину, что кающаяся Мария Магдалена изображена не традиционно, не канонически – что же это она сидит и спит? И ещё он её изобразил, «Бегство в Египет» он картину написал, прекрасную картину, где сидит Иосиф, слушает музыку, которую исполняет ангел, ангельскую музыку, и держит перед ним ноты. Обратите внимание – ноты как на картине «Лютнист», так и на картине здесь он изобразил эти ноты, мы понимаем, что вот возьми меня: как я их изображу – я, конечно, постараюсь их воспроизвести, но я же в них ничего не понимаю, а вместе с тем это свидетельствует о том, что этот человек был вообще достаточно грамотен во всех отношениях.
Д.Ю. Музыкант.
Александр Таиров. Да, и вот там изображена та же Анна в виде Марии с младенцем, младенца он взял, по-моему, у какой-то зеленщицы на 2 часа, чтобы изобразить. И вот Анна сидит, уставшая, дремлющая, опять же. И что интересно, на что обратили внимание – что даже осёл изображён там, они же на осле ехали, осёл внимательно слушает музыку. Вот до такой степени, вообще это интересно, он очень проникновенно изобразил эту картину, и эта картина стала тоже предметом торга или коллекционирования, скажем так.
И вот эта Анна ещё позировала для картины «Марфа и Мария», картина, где изображена она и её подруга Фелида Меландроне. Фелида Меландроне изображена там в роли Марии, причём она опирается на… мы помним, такое же феерическое зеркало было на картине Ван Эйка «Семья Арнольфини», если мы помним, там на заднем плане зеркало, в котором отражается он и ещё кто-то. Вот интересно, если мы будем о Ван Эйке когда-нибудь говорить, там известен этот эпизод.
Так вот, она опирается на зеркало, и каждый элемент в этой картине играл определённую роль, потому что зеркало сферическое делало более выпуклым её грехи, её недостатки, её пороки, она в роскошном платье, в нарядном платье стоит, ну естественно, пользуясь благами, как платой, и всем остальным. А Марфа в скромной одежде, как раз Анна позировала для неё, это была Фелида Меландроне, и Марфа, согласно западному обычаю, мы же делаем, загибаем пальцы таким образом, а Марфа, говоря о её недостатках, о том, что она должна, она прямо вот так вот и показывает, увещевает её встать на путь истинный и приводит определённые доводы. Эта картина, выразительность этой картины… Что интересно – что, казалось бы, в такой спокойной картине присутствует движение определённое. Когда мы смотрим – там есть такая мощная диагональ, идущая с левого нижнего угла в правый верхний, к самому зеркалу, и Фелида, опирающаяся о сферическое зеркало, она как бы венчает. Вся линия рук у Марфы, она прямо вот таким образом движение… идёт линия, она прямо направлена к той, которая опирается о зеркало и как бы всё вместе замыкает и концентрирует всё то, о чём идёт речь в этой картине, в этом выпуклом зеркале. Понимаете, вот это интересный ход такой, и когда ты понимаешь, насколько тонко он выстраивает ситуацию и событие в этой картине, и это обращает на себя внимание только тогда, когда ты погружаешься, когда ты буквально просчитываешь ходы, вникаешь в суть происходящего тут такого негромкого диалога, но очень глубокого и содержательного. И вот этот момент, где нет пафосных движений, вот в этой ситуации, где они как бы неспешно обсуждают, и где она пытается убедить Марию, что надо встать на путь истинный, казалось бы, такой негромкий диалог, и так тонко и глубоко выстроена эта картина. Вот интересно, вот эта Анна Бьянкини. Потом, кстати, ужасная судьба, ну, не то чтобы ужасная – они приехали в Рим, когда она была ещё юной совершенно, и мать её умерла, заболев в Риме, и она уже вынуждена была пойти по рукам, чтобы каким-то образом свести концы с концами. Но у меня всегда возникает вопрос, который я обращаю в пространство: я не знаю, почему всё-таки, когда речь идёт о том, чтобы заработать деньги, либо с точки зрения такой сегрегации, условно говоря, или унижения женщин им не остаётся другого пути, либо всё-таки они сами, или некоторая часть из них, полагают, что это самый нормальный способ заработать деньги – вот этот момент, и когда я говорю об Анне, когда она, будучи красивой, молодой – там подчёркивается – с осиной талией красавицей, вынуждена была встать на этот путь с тем, чтобы сводить концы с концами, существовать.
Д.Ю. Ну там же множественное, как обычно – т.е., с одной стороны, ты, будучи не аристократкой, ну ладно, аристократкой – у тебя просто нет специальности, это раз, никаких денег ты какой-то подёнщиной не заработаешь, куда ты пойдёшь, хозяин немедленно…
Александр Таиров. Тебя использует.
Д.Ю. … к тебе присмотрится, да, не надо тебе работать. Ну так чем ходить на завод и стоять у станка, давай сразу начнём торговать известно чем. Ну а с другой стороны, это, во-первых, большие деньги, внимание, несложный труд, в общем-то, ну а злые языки…
Александр Таиров. Ну, древнейшая профессия, да, вот тут момент очень сложный и, мне кажется, очень унижающий женщин.
Д.Ю. Безусловно.
Александр Таиров. Когда я думаю об этих вещах, знаете, у меня не укладывается в голове, когда она практически обречена на поругание любым человеком, который готов за неё заплатить деньги. Это вот представьте себе, через что…
Д.Ю. Это не так – там есть имущественный ценз: с тобой не будут разговаривать ниже определённых расценок – ты кто такой вообще? Нет, там желающих достаточное количество, и всё это выглядит не совсем так, как выглядит сейчас, я так считаю.
Александр Таиров. Мне всё равно…
Д.Ю. А, замечу, что и нынче масса гражданок живёт точно так же, только это называется по-другому. Вон залезем в интернет – количество студенток, которые предлагают взрослым дяденькам: не возьмёте ли вы меня на некоторое попечение? – оно превышает все и разумные, и неразумные пределы.
Александр Таиров. Вы знаете, всё равно соприкосновение двух людей, когда человек входит в твоё личное пространство, тут что-то происходит сакральное с человеком, и я до сих пор не могу взять в толк, как это вообще возможно? Т.е. это имеет место…
Д.Ю. Слава Богу, что нас это не касается.
Александр Таиров. Ну да. Итак, возвращаясь к этому: она закончила свои дни очень печально – она умерла, по-моему, от какой-то болезни, то ли от чахотки, то ли что, в 20-летнем возрасте вообще-то.
Д.Ю. Ого!
Александр Таиров. Т.е., по сути дела, и не пожила, вот так. И он её искал, он на какое-то время её потерял из виду, потом пытался отыскать, но выяснилось, что её уже нет, она куда-то уехала, а какие-то следы её кем-то, не знаю, возможно, были отслежены – в общем, она ушла из жизни рано.
Ну а Фелида Меландроне так и осталась пассией Джустиниани, но, правда, вот это вот её общение с кругом лиц, в том смысле и с Рануччо Томассони, так или иначе каким-то образом влияло на неё, и в конце концов её следы тоже затерялись.
Одним словом, мы не о том говорим сейчас, в данном случае переходим к следующей фазе: после того, как он выполнил этот огромный заказ, который поднял его реноме и сделал фигурой значительной в кругах коллекционеров, он получил второй заказ, но к тому времени он вынужден был покинуть Дель Монте, мне кажется, это как раз произошло, либо он ещё будучи у Дель Монте выполнил второй заказ, либо он уже был у Чириако Маттеи, который на тех же условиях – его приютили у себя, дали помещение… Но это, в конце концов, не так важно. Важно то обстоятельство, что следующей его работой была работа для храма Санта-Мария-дель-Пополо, где он выполнил два совершенно удивительных панно – это одно из них «Смерть, или Воздвижение на крест Петра», а вторая «Обращение Савла». Эти две картины были совершенно невероятны по своему драматизму, по накалу страстей, там… Вот смотрите: он изобразил Савла в совершенно неподобающей форме – лежащим ниц на земле, причём он изображён таким образом, что практически выходит из плана картины, с распростёртыми руками низвергнут тем лучом, который ослепил его, Христос его ослепил. Причём ни луч не показан, ни Христос не показан. И ещё один момент неканонического изображения – изображена крупным планом лошадь. Представляете себе, картина огромная, и вся заполнена лошадью гнедой масти, причём лошадь пегая такая с белыми какими-то неестественными пятнами. Не белая лошадь, не вороной конь. не вздыбленный как-то картинно конь, а просто стоящий с одним поднятым копытом конь, понуривший голову и глядящий сострадательно и с виноватым чувством каким-то косящий глазом на низвергнутого Савла. Это так странно, и там такой ритм мощный этих ног лошади, переходящих в ноги конюха, который держит, неестественно огромных ног таких. И сейчас, конечно, вот-вот раздавит, но конь осторожно приподнял копыто, как бы зная, что под ним лежит его хозяин, Савл. И вот эта картина, когда его потом опять спрашивали, почему ты изображаешь на первом плане коня? Где Христос? Савл у тебя лежащий, Христа нет – и что это, конь, что ли, предмет поклонения? И вы понимаете, какая вещь: он говорит, что он же упал с коня, в нашем просторечном выражении: ты что – с коня упал? Может быть, это имело какое-то отношение?
Д.Ю. Рухнул.
Александр Таиров. Рухнул, да. И вот она полна такого внутреннего напряжения и сопереживания – что будет сейчас в следующий момент? Там есть, конечно, определённые изъяны – опять мощные ноги этого конюха, но особенно выразительна вторая картина. Она, конечно, тоже впечатляет – вот этот вот огромный круп коня, и на самом деле, это обращает на себя внимание, наверное, простого человека обращает внимание вот эта невероятная величина коня, который как бы показывает значение происходящего – той высоты, с какой он был низвергнут в таком беспомощном состоянии. Надо сказать, что очень выразительно изображён Савл – он выходит за пределы картины, он как бы на тебя обращён, ты прямо чувствуешь себя…
В его картинах есть одна особенность – когда зритель буквально чувствует себя участником этих событий, он как будто бы вовлекается в события, происходящие там, в картине, он погружается в неё. И в этом смысле очень важна картина «Ужин в Эммаусе», где изображены 4 фигуры – это Клеоп, Симон, Христос, причём Христос безбородый – удивительное дело, и сам, собственно, корчмарь, или тот, кто таверну эту содержит. Там очень интересно в ракурсах: первая фигура, опять фигура первая выходит на первый план – это Клеоп. Клеоп сидит, опершись о перила кресла, и по нему видно, что он напружинен. Вы понимаете, если бы изобразил человек, находящийся в русле классических традиций или маньеристских традиций, он изобразил бы его обязательно вставшим, а он его напружинил таким образом, что вся фигура напружинена и голова прямо обращена к нему, он вполоборота его сделал, он к нам спиной и чуть-чуть в ¾, и ты прямо видишь, что вот-вот, и он вскочит прямо, этот локоть практически упирается тебе в лицо, причём локоть с прорехой какой-то. Настолько это реально воспринимается! И второй, Симон, распростёр руки, как бы показывая: это ты, которого распяли? Там же какой момент – где он разломил хлеб, и они догадались, что это он, и в этот момент он исчез. И они в этот момент, они же думали, что это просто путник, поначалу. И вот этот момент первого изумления, мгновенного изумления, когда он вот-вот исчезнет – это когда он простирает к ним руку, вот эта вся завязка, линии связи между всеми этими делами, этот треугольник, образующийся между лицами и линиями, настолько выразительный, и эти фигуры – настолько они внутри полны энергией и вот этого невольного изумления. И там есть один изъян, на который обращают все исследователи – где правая рука Симона больше, чем необходимо для того, чтобы перспективно её изобразить, она должна быть гораздо меньше, и она прямо рядом с Христом. И у меня возникла мысль, что это сделано им было преднамеренно, не может быть, чтобы человек, знающий анатомию, совершил бы сознательно эту ошибку, понимаете. И у меня такое ощущение, что это сделано специально, чтобы это внимание, эта масса обратила, усилила влияние Христа, который сидит там, в глубине. И опять этот изумительный натюрморт, которым владел в совершенстве – помните, мы говорили, что натюрморт для него был так же важен, с таким же тщанием он его делал. И всё это на первом плане: натюрморт с фруктами, курица, хлеб. Там подчёркивается, что и сейчас такой хлеб пекут пекари так же, всё это осталось. И эта картина полна драматизма, вот эта встающая фигура – ты прямо чувствуешь, что он сейчас встанет, это за секунду, за долю секунды до движения схвачено и передано – вот чем восхищался Мартин Скорсезе.
И уже переходя к следующей работе, хочу сказать вот о чём… Ну я уже не говорю о колорите. Дело в том, что Караваджо не видел работ Джорджоне, когда был в Венеции, почему – потому что работы Джорджоне были во дворцах, куда ему доступа не было. А случилось вот что: Климент в желании наполнить казну решил совершить поход по городам Италии, набрал целую кучу войска, 27 кардиналов с собой, и эта вот кавалькада понеслась по городам и весям Италии с тем, чтобы снять сливки и прочую сметану, как говорил Остап-Сулейман-Берта-Мария. И через некоторое время он взял с собой небезызвестного Чезаре д’Арпино для того, чтобы тот был оценщиком того, что имеет ценность, что нет. И он оттуда привёз-таки из Венеции Джорджоне, колорит работ которого поразил, конечно, Караваджо. Посмотрите: попадая во дворцы, он проходил такие университеты мощные, ведь дворцы были наполнены произведениями и голландцев, и венецианцев, и флорентинцев, и всё это было для него невероятными университетами, он прошёл невероятную по силе воздействия школу, которую, казалось бы, любой желал бы увидеть это всё в то время, был свидетелем этих событий. И когда Климент VIII привёз все эти драгоценности, он тоже стал свидетелем этого великолепия, которое было пущено с молотка, деньги, которые были выручены, Климент VIII забрал себе.
Был ещё один эпизод, который мне очень напомнил наши времена – когда там одно семейство Ченчи, Джулиано Ченчи или Джузеппе Ченчи, был один очень богатый, обладал 500 тысяч, что ли, или боюсь ошибиться, золотых скудо у него состояние было его, или 500 миллионов? Нет, 500 миллионов – это слишком большая цифра даже для того времени. Так вот, там была такая тёмная история – он женился на молодой жене, у него было семья, он не давал возможности выйти замуж своей дочери, держал в чёрном теле своих сыновей. В общем, он оказался выкинут из окна, очевидно, убили слуги, подговорённые его женой Лючией, Беатриче, дочерью. Было так или нет, неизвестно, и суд, взялся один адвокат, и он вроде бы доказал, что они непричастны, но тут вмешался Папа Климент. Ему нужны были деньги Ченчи – это прекрасный случай, когда он мог прибрать это всё к рукам. Процесс быстренько пошёл в нужном русле, адвокату намекнули, чтобы он не витийствовал, чтобы не участвовал в этом деле, не проявлял свою прыть, и он грустно отступил назад. Они были обвинены, приговорены к смертной казни через отсечение головы, подвергнуты были жесточайшим пыткам калёным железом, где они во всём сознались, как бы. Ну и да, и публично казнили Лючию, жену его, там был прообраз гильотины, которой отсекли голову. Насчёт гильотины я там как-то оговорился в каком-то месте – а, ладно…
Д.Ю. Неважно.
Александр Таиров. Неважно, да. И вот отсекли ей голову. А Беатриче повела себя невероятно мужественно – она вышла в голубом платье, совершенно непоколебимая такая, не дрогнул ни один мускул, и когда она положила голову на плаху, она послала проклятье Папе Клименту, который, находясь где-то там…
Д.Ю. Представителю Бога на земле.
Александр Таиров. Да. А он находился где-то там, спрятавшись со своими приближёнными, и наблюдал за этой казнью. Более того, он всплакнул, когда смотрел на её казнь.
Д.Ю. Вот подонок, а?!
Александр Таиров. И тихонечко укатил. Так вот, свидетелем этой казни был Караваджо, которая потрясла его, и вообще весь Рим был потрясён этим неправедным судом, понимаете, а он заграбастал это всё, раздал по своим родственникам, и т.д. На следующий день Пьяцца Навона, там стоит колонна, какая-то полуразрушенная скульптура, которая, кстати, происхождение этой… вообще вот пасквили – на следующий день появился листок, которые назывались «пасквили». Пасквиль, откуда он произошёл?
Д.Ю. Паскуале.
Александр Таиров. Паскуино жил, то ли он был брадобреем, то ли портным, он отличался острословием и размещал листки какие-то, вроде бы. И с тех пор пошло, что Рим был наполнен острословами, и по поводу всяких событий был официальный листок «Авизи», Папский, где официальные новости сообщались, это «Российская газета», условно говоря, и был вот этот вот, вот эта колонна на площади Навона, рядом с площадью Навона, где эти пасквили размещались. И на следующий день после этой казни был очередной пасквиль, который, вообще говоря, порицал, и все римляне были возмущены этим. Но вопрос не в этом, хотя и в этом тоже – этим же возмущён был и под впечатлением находился, он даже чуть сознание не потерял от впечатлительности своей, его даже, по-моему, там откачали чуть-чуть. Так вот, он был настолько впечатлён этой брызнувшей кровью, когда Лукреция или Лючия, я уже сейчас боюсь ошибиться, и Беатриче отсекли голову, ну представляете – он это всё увидел, как это потом отразилось на другой работе, которую он выполнил – «Юдифь и Олоферн». Если до этого Юдифь изображали, вот мы помним, как у Боттичелли, и у многих классиков – совершенно в ином, таком романтизированном контексте, а тут он изобразил её конкретно совершенно отсекающей голову, прямо натуралистично, где она одной рукой держит за волосы Олоферна, а другой рукой движением навстречу себе отрезает решительно, немножечко так брезгливо сморщившись, для которой, кстати, и позировала, по-моему, Фелида Меландроне. Она прямо отрезает ему голову, а рядом стоит старуха со зверским выражением лица, которая ожидает, что она поместит её в мешок, эту голову. Конечно, попутно у меня возникает параллельно одна вещь: как вообще женщина, она же была вдовой из города Ветилуя, Юдифь, которая вообще, наверное, кроме маленького ножика для намазывания масла, ничего не держала – как она могла этот кинжал… ? Всё-таки тут есть некое несоответствие. Вообще если кто-либо когда-либо что-либо отрезал, мясо даже резал, он чувствовал, как это вообще сложно резать. И кто-то там, какой-то из военных, я встречал такую информацию: вы даже не представляете что значит отрезать голову человеку вообще. А тут девушка субтильная такая отрезает голову – тут есть какое-то несоответствие. Ну, одним словом, он это изобразил настолько натуралистично – эти брызги крови летящие, то сразу возникает представление, что он должен был это видеть, вообще, натурально, потому что если ты не видел, как брызжет кровь из отрезанной головы, ты не можешь это изобразить. И вот он изобразил с такой степенью натурализма. Между прочим, он потом ещё, вот эта вот ситуация с отрезанными головами, когда он изображал Давида и Голиафа, был такой эпизод, когда он изобразил себя в отрезанной голове Голиафа, тогда уже, когда он уже подвергался вот этим мощным гонениям, и лицо, искажённое страхом, и молодой Давид держит вот его практически голову. Эту голову увидел один из испанских графов – Вильябланка, или вот какая-то такая фамилия была, он увидел, поразился и захотел эту работу, а он до этого видел его в Риме работы и мечтал получить его работу, и он вот именно эту работу захотел. Тот ему её не продал, но – говорит – я могу сделать вам такую работу. А тогда, - говорит граф, - изобрази мою в виде отрубленной головы.
Д.Ю. Молодец!
Александр Таиров. Он изобразил эту голову, узнаваемую голову, это граф увёз с собой. И надо же было такому случиться, что этот граф вскоре был убит своим любовником.
Д.Ю. Тот ему голову отрезал?
Александр Таиров. Ну, информации об этом нет, и от этой картины родственники поскорее постарались избавиться. И через какое-то ступенчатое перемещение этой картины она попала в конце концов в коллекцию короля Карла I, которого, как мы знаем, казнили на эшафоте, товарищ Кромвель. Помним, это описано ещё в «Трёх мушкетёрах», по-моему, этот эпизод. И вот это вот такой вот интересный, пророческий какой-то и фатальный момент.
И когда мы возвращаемся к этой ситуации, от которой мы сейчас оттолкнулись, мы должны сказать следующее: следующую работу он получил для храма вот как раз этого самого Валичеллы, по-моему, он должен был написать работу, и вот эта работа, на мой взгляд, одна из лучших вообще работ, и это даже не мой взгляд, это вообще считается лучшей работой этого толка – называлась «Положение во гроб».
Что сказать, вообще мощь этой работы заключается в той экспрессии, в той мощи движений, в той энергетике и в то же время невероятной скорби, которой она вся наполнена. Даже вопрос не стоит в том, было это когда-нибудь, Христос ли это, кто вообще там стоит, все эти лица – Мария Клеопова, Мария Магдалена, мать скорбящая, стоящая там, Никодим, держащий его, поддерживающий его, Иаков, там, поддерживающий тоже его? Всё вместе, эта картина как бы идёт, и вот такое веерообразное движение идёт мощное и завершается свисающей рукой Христа, мертвенно-бледной. Вот это он всё написал с такой силой, с такой страстностью, что она содержит какую-то энергию скорби, энергию почтения, энергию бесконечной любви к тому, кого они поддерживают, и там вот эти вот мощные складки такие, мощные удары этого красного такого – цвета страсти, цвета крови, цвета, может быть, в какой-то степени, сочетание… он же выполняет на чёрном фоне это практически, на фоне бесконечности, в которой ты можешь вообразить себе… Что можно вообразить? Я так думаю, что его полотна обращены в вечность, как произведения любого гениального художника, но они как бы являются космичными, вселенскими такими, эти сюжеты, и этот вселенский сюжет как раз и воспринимается из сочетания этого красного и глубоко чёрного, этих веерообразных рук Марии Клеоповой, распростёртых и как бы показывающих распятие Христа. Они мощно вот так вот растопырены пальцы, и отсюда начинается мощная энергетика движения туда вниз, там прямо руки вот так переходят и завершаются ниспадающей рукой Христа, ниспадающей тканью белой и опорой мощных ног, 2 столба ног преувеличенно мощных ног Никодима этого, которые дают мощную опору всему этому ансамблю и стоящей ноге, немножечко приглушённой, Иакова, и всё это опирается на мощное основание плиты мраморной, которая держит всё, всю эту вот непонятно, в чём, непонятно, как, но вот она является… и как бы даже возникает ощущение, что это фундамент веры, по сути дела. И когда ты видишь эту картину, ты понимаешь, что ты преисполнен этого благоговения, этого чувства сострадания, этого чувства погружения в глубины страдания и скорби такой, которая является вечной и всемирной скорбью. И через это ты понимаешь очень многое. Речь не идёт вообще, веришь ты или не веришь, но ты понимаешь, какова глубина скорби по поводу утраты человека, Богочеловека или вообще человека, который тебе дорог, по существу. И вся эта группа так скомпонована, она вместе так завязана, что она являет собой мощное одно целое, стоящее на мощной опоре – мощная плита такая. Как это можно было срежиссировать, как это … ? Ведь после того, как она была создана, её копировали все, кто только мог, включая Рубенса, её копировали бесконечно, и она считается вообще лучшей картиной вот на эту тему. Никто ничего подобного не мог создать, ведь это должен быть прорыв, это должна быть такая сила воображения и страсти, чтобы это всё изобразить. И когда ты на неё смотришь, она ведь большая картина, огромная, она, конечно, производит невероятное впечатление! Представляете, вот это сила гения, и вот эта его кьяроскуро, этот мощный контраст, который… с помощью которого он добивается выпуклости происходящего сюжета, когда Никодим… и там очень интересно: Иаков поддерживает его, и палец его, не знаю, это он сделал специально или нет, он немного погружается…
Д.Ю. В рану?
Александр Таиров. Да. Этот же момент он прямо воспроизводит на «Уверение Фомы»
Д.Ю. Фома, да, Неверующий.
Александр Таиров. Да, где Христос прямо его…
Д.Ю. «Пока персты не вложу, не поверю».
Александр Таиров. Да, и там изображена очень мощная группа, закомпонованная в квадрат – эти все 4 головы, включая голову Христа, они мощно спрессованы и они все как бы погружены в разглядывание того, что происходит здесь. И насколько он убедительно показывает вот этот во психологизм человека, тупо преследующего цель: пока я не погружу палец, пока я не пощупаю… И тут же возникает ощущение: как ты вообще… знаете, через что ты проникаешь в драматизм сюжета – когда ты понимаешь: вот она же, рана, как ты можешь, ты вообще нормальный человек? Если ты нормальный, чего ж ты лезешь пальцем в эту рану? Там же она ещё живая, она же кровит, ему больно, в конце концов! Нет, этот Фома прямо впихивает палец туда, Христос вводит, но он ему не верит, что давай, можешь ты? Я бы отдёрнул руку, а этот-то ещё пристально вглядывается туда, ему недостаточно посмотреть, он ещё щупает и смотрит, как он щупает. Т.е. это в какой-то энной степени такая… желание: нет, я хочу вот прямо, чтобы я почувствовал. И эти все тоже прямо грубо туда вглядываются. Т.е. этически, мораль, она вся такая противоречивая внутренне, и такое мощное напряжение. И это сделал он. И Христос отверзает эту рану и позволяет ему её пощупать. И вот этот вот контраст, это опять на тёмном фоне выхватывает.
Видите, какая штука: любую картину надо обязательно пропустить через себя, обязательно проиграть себе – а если ты этот палец… ты вставишь этот палец или нет? А ты, у тебя рана, ты впустишь чей-то палец сюда? Вот тут вот взаимодействие двух начал: одного высокого, благородного, а другого низкого – «а вот я без этого не могу». Вот такова сила воздействия искусства.
И сейчас, переходя к тому моменту, когда он вынужден был бежать из Рима, потому что о нём можно говорить бесконечно, и просто у нас нет столько времени, я хочу коснуться того, как он жил тогда, когда он вынужден был бежать из Рима, как загнанный зверь, и тут же, опять же, помогло ему семейство Колонна, именно сама Констанция Колонна, предоставила возможность своим управляющим в одном из захолустных имений, там где-то вдали, Дзагороло называлось, поместили его под охраной, и он там имел возможность находиться, отчасти и творить в этом состоянии, и потом она, приехав туда, сказала, что ему нельзя там оставаться, и он вынужден был ехать дальше. И нашёл он своё пристанище в Неаполе. Неаполь был достаточно независимым от этого, от Рима городом, причём он был больше него по размеру, по количеству жителей. Это было резиденцией испанского вице-короля, мы знаем, что Неаполитанское королевство входило во владения Испании ещё тогда, когда Карл V передал это Филиппу II. И вот там он, конечно, встретил опять меценатов, опять желающих получить его работы, и он выполнил там за этот период пребывания в Неаполе более 12 больших, фундаментальных полотен, об одном из которых нужно сказать особенно – это братство Пио Монте делла Мизерикордия, что означает «Путь к вершинам милосердия». Его основали 7 отпрысков аристократических семей неаполитанских, получивших образование в неапольском университете, гуманитарное и гуманистическое образование, и они были одержимы оказанием помощи страждущим и создали это общество, финансировали его, создавали госпитали, и т.д., и построили храм с тем же названием Пио Монте делла Мизерикордия. И вот для этого храма они заказали панно, как мы бы сейчас назвали, «Семь дел милосердия». И он изобразил их блистательно, это вызвало всеобщее поклонение неаполитанцев, и более того – оно стало реликвией неаполитанской, как Святой Януарий, они стали поклоняться ему так же и считать его реликвией. Более того, когда испанский наместник предложил 2 тысячи золотых скудо за это, они отказались его продавать, а они заплатили 400 скудо за это, на секунду. И они наотрез отказались продавать, и после этого случая они вообще постановили, что оно никогда не должно покидать стен храма Пио Монте делла Мизерикордия, оно должно там оставаться, не взирая ни на что. И там же они поместили под стеклянной крышкой договор, согласно которому это было выполнено и где была подпись… И по сей день оно не выносится оттуда, несмотря на все эти преследования, когда из всех храмов это убиралось, оно там осталось, и неаполитанцы считают её своей реликвией и поклоняются ей так, как Св.Януарию.
Д.Ю. У них 2 пробирки с засохшей кровью, которая на какой-то праздник разжижается, и они счастливы.
Александр Таиров. Вы на секунду вообще представьте…
Д.Ю. Т.е. они в тот же момент поняли, что это невероятный шедевр, ни за какие деньги никуда таскать нельзя?
Александр Таиров. Конечно, и был случай, кстати, там же в Неаполе, когда наместник, вице-король, заказал к приезду предполагаемому Филиппа III работу «Распятие Св. Андрея» на андреевском кресте, как бы, он, правда, не знал, что андреевский крест Х-образный, он изобразил на обычном кресте. Он сделал это распятие, и неподалеку от Неаполя поместили эту огромную картину, так эта огромная картина вызвала невероятный всплеск интереса к ней, паломничество и стала поводом для выражения протеста против властвования испанской короны, вызвала народное возмущение. Картина вызвала народное возмущение! И вице-король поспешил её убрать оттуда с тем, чтобы умерить вот этот гнев народный и он потом её увёз в Испанию с собой, эту картину.
Т.е. я подчёркиваю вот что: на самом деле, когда мы говорим о Караваджо, о вспыльчивом, о противоречивом, об утончённом или ещё каком-то, склонном к каким-то всплескам, всё отступает на задний план, когда он создал такие вещи, которые, мы понимаем, что безграмотный или полуграмотный, ну там был безграмотный народ, для себя боготворил. Это было настолько убедительно, все его работы вызывали настолько своеобразный эффект соучастия, сопричастности к тому, что там происходило, мне кажется, это мало кому даётся с такой силой, с такой убедительностью. Эти грязные пятки или когда он «Смерть Марии» написал, где там прямо вменяли, что какую-то девку написал, тут лежащую, мёртвую, с немного вспухшим животом, в простой одежде, с босыми ногами, свешивающимися там, и т.д. А какая она должна быть? Она же была простой женщиной. И вот этот вот огромный полог красный – это всё настолько сильно, скорбящие лица, стоящие на ней, и она лежит – это настолько реально, настолько впечатляюще! Что ещё нужно для того, чтобы убедить людей верующих? И простой народ буквально принимал это за реальность, за правду это всё.
Но тут возникали некие непонятные совершенно опасения у Церкви, наверное, та экзальтация, которая происходила, пугала их, и то, что народ видел в этом своё, их тоже пугало. Я думаю, всегда власть имущие пытаются установить некую незримую полупрозрачную преграду и показать, что этот мир, которому вы поклоняетесь, он иной мир, и никогда он вам не будет доступен. Ты должен знать своё место, а это предмет твоего постоянного обожания и поклонения, который непосредственно связан с таинственностью власти, как таковой, которая где-то там наверху, она особенная, она там что-то особенное, своё, недоступное тебе, земному червю, делает. Там у неё совершенно иные цели, иные средства, и она достойна только поклонения и обожания. Но когда Караваджо приводит это вот и показывает, что это близко, это вот рядом, это тебя касается и к тебе имеет непосредственное отношение – вот это, наверное, пугало, и это являлось предметом, по поводу которого, собственно говоря, и вынуждены были отовсюду изъять потом. И после этого он потом поехал на Мальту, и вот тут вот, и тогда, когда он пытался сделать портрет Папы, и когда он пытался поехать на Мальту в надежде стать рыцарем, в надежде получить какую-то возможность искупления, и став рыцарем, он смог бы избавиться от преследования. И поехав на Мальту, поплыв на Мальту, он встретил там знакомых Колонна – вот этого самого Фабрицио Колонна, с которым всё равно остались у него прохладные отношения, но Алоф де Виньянкур, магистр ордена, естественно, приветил его и потому, что он понимал, что он для него сейчас тоже сделает работы. Чем занимался орден, по сути дела? Торговлей рабами, грабежами, условно говоря, или военными набегами, как это…
Д.Ю. Деньгами, короче.
Александр Таиров. Да, деньгами. Дело в том, что рыцарями ордена становились те, кто отдавали часть своего имущества или платили такой вступительный взнос. Многие балбесы высокопоставленных семей, которые натворили там какие-то дела, их туда отправляли на перевоспитание. Но просто так ты туда не войдёшь, ты должен обязательно вступительный взнос – это земли, угодья, недвижимость какая-то. И вот он приехал для того, чтобы как-то там получить возможность стать рыцарем. Естественно, что он может предложить? Он может написать, и написал портрет Виньянкура в латах, которые ему недавно подарил Папа – роскошные латы золочёные, и рядом мальчик стоит. И вот смотрите: там есть одни свидетельства, которые говорят о том, что Виньянкуру понравился этот портрет, и он благодаря этому сделал его рыцарем, и не только ему, а он ещё сделал там панно «Усекновение головы Иоанна» - великолепное панно, которое украсило храм внутренний ордена, в котором раньше ничего не было вообще. А второе свидетельство говорит о том, что этот портрет вызвал негодование у Алофа Виньянкура, ибо рядом изображён был мальчик, паж, который оруженосец, который вызвал у Виньянкура возмущение: ты на что намекаешь, типа?! И это послужило основанием для преследования и ареста его. А с другой стороны говорится, что Виньянкуру понравился этот портрет, и он выполнил второй портрет, где он сидит в кресле. И в общем, в итоге его посвятили в рыцари. Там было 2 тысячи рыцарей, чем они занимались, эти рыцари – они болтались и маялись от безделья. Пили, естественно, развлекались, играли в карты – вот чем они занимались. И когда появился он, он, естественно, опять вызвал зависть: ты кто такой? Ты безродный, и ты лезешь, и ты стремишься стать одним из нас? Ты получил благодаря этим своим картинкам каким-то благосклонность магистра-рыцаря? И это, естественно, вызвало зависть и разные козни. По определённым свидетельствам, они были вызваны не только этими причинами, а многими другими причинами, которые нам не известны на сегодняшний день, поскольку не сохранилась информация. И это вызвало зависть. В общем, суть в том, что из-за этой зависти и из-за одного инцидента, произошедшего с казначеем, где тот пренебрежительно о нём отозвался в итоге, и тот, выхватив шпагу, сказал, что только твой возраст останавливает меня от того, чтобы отрезать тебе язык. И тот, естественно, ему этого не простил. Ему устроили, в общем, какую-то потасовку, в которую вовлекли, в результате которой был ранен один из участников этой потасовки. И в результате разбирательства все отказались от того, что они участвовали, и показали на него. В итоге его осудили, посадили в т.н. гуву, гува называлась страшная такая яма, вырубленная скальном грунте, на конус сходящаяся яма без крыши. Представьте: климат на Мальте жаркий, и вот его туда посадили, и не один человек там сгинул под палящими лучами солнца, без воды, без всего. И он бы там кончился, если бы не одно обстоятельство – кто-то помог ему бежать. Оттуда никогда никто не бежал, и кто-то помог ему бежать, там положили кучу тряпья. В итоге он оказался на Сицилии, и вот тут всё покрыто мраком: там говорится о том, что появился там Марио Миннити уже, и он ему помог бежать – т.е. вот эта история требует отдельного рассказа, который здесь неуместен. Он оказался на Сицилии, но где бы, в каких городах на Сицилии он ни бывал, он опять писал для храмов панно: это «Погребение Лючии», «Оживление Лазаря», допустим, и там эпизод был, когда он велел выкопать 2 дня назад похороненного молодого человека, и его держали двое подмастерьев, они не выдерживали этого запаха и готовы были убежать, но он пригрозил им ножом, и они в итоге стояли, и это всё… Т.е. насколько…
Д.Ю. Серьёзный подход!
Александр Таиров. Да, были такие свидетельства. В итоге вот эти все полотна остались, и где бы он ни был, он везде писал полотна, везде он работал с невероятной самоотдачей весь этот период, несмотря на то, что он был как загнанный зверь, он постоянно был под страхом того, что Папские ищейки, а после того, как он бежал с Мальты, уже ищейки ордена, которые не могли ему простить. А ему там устроили показательное же сложение с него звания рыцаря: поставили стул в торжественном зале, на стул мантию, шпагу положили и громко объявили его имя и сказали, что он лишается этого всего.
Д.Ю. Раскороновали, да?
Александр Таиров. Да, раскороновали. И уже оттуда всё остальное после этого. Более того, рыцари потребовали вынесения из храма его панно, на что Алоф да Вньянкур сказал: нет уж.
Д.Ю. Минуточку, да?
Александр Таиров. Да, минуточку. И по сей день оно, это панно, там. Но что интересно: когда он снова в результате странствий и оставления работ вернулся снова в Неаполь, там его искал какой-то монах и предлагал ему вернуться на Мальту: де, тебе всё возвращено, ты будешь рыцарем. Алоф Виньянкур спохватился – он же теряет золото практически, всё, что он бы там делал, это всё обращено было бы в звонкую монету. И уже оттуда начинается… На самом деле, возникла ситуация – его потом в Неаполе до смерти избили всё-таки в одном из переулков, он едва оправился после этого. И отсюда начались фобии, мания преследования, и уже он в некоторой степени чуть ли не лишился рассудка, ну т.е. всё время он говорил о том, что его преследуют. Т.е. я думаю, что он уже стал казаться ненормальным людям, которые с ним работали, и он уже в силу этого обстоятельства ими был списан, как человек, который представляет из себя ценность. И дальше началось следующее: а он же все эти картины, которые попутно писал, независимо от того, какие заказы он делал, он собрал коллекцию картин с собой, и уже к тому времени прошло известие о том, что всё-таки лица, ходатайствующие, высокопоставленные о его прощении, добились таки прощения, но реально он этого не получал, об этом говорилось. И он стремился теперь вот попасть в Рим, чтобы получить уже, удостовериться, и т.д. И он взял, нанял корабль-фелюгу, погрузил все картины свои и поплыл с тем, чтобы попасть в Рим. Но он остановился в первую очередь не в Риме, а там в небольшом городке на побережье, недалеко от Рима, буквально уже недалеко от Рима, но ещё в зоне испанского владычества. Его там почему-то арестовали, потом его отпустили – вроде бы, арестовали его по ошибке. И уже после этого фелюга, пока он сидел там, отплыла вместе со всем этим скарбом в неизвестном направлении. И отсюда он, выйдя из тюрьмы, решил пойти пешком, что говорит вообще, на самом деле, что уже он был неадекватен, и вот под палящими лучами итальянского лета, где температура выше 40 достигает, он шёл по побережью, и куда он, как он пропал, потому что за ним потом послали карету, она его на берегу не нашла, в общем, искали его. И так вот печально кончилась его жизнь в 1610 году.
Д.Ю. Подозреваю, что его нашли те, кто искал. Т.е. все эти, как в известной шутке: если у вас паранойя, это вовсе не значит, что за вами не следят. Действительно, следят, он действительно понимал. Следили за ним, естественно, с единственной целью – чтобы его убить. Но желательно при этом, чтобы ты немножко помучился. Для этого, по всей видимости, избили. Ну а как – ты работать-то можешь только открыто, это же ты, подписывать всё. А надо прятаться. Ну естественно, тут…
Александр Таиров. Так там же есть ещё одна версия – что вроде он потом нанял баркас, каких-то рыбаков, а рыбаки его там избили, обокрали и бросили на берегу.
Д.Ю. Тоже может быть.
Александр Таиров. А потом он стал от них убегать, а они стали его догонять с тем, чтобы добить – вот какая ещё другая версия.
Д.Ю. Может быть, да.
Александр Таиров. Видите? А потом, как бы, мы, подводя под этим всем черту… Вообще, на самом деле, когда ты говоришь об этом, возникает такое внутреннее сострадание этому гению! Ведь в наше время в 2006 году был поставлен монумент, обелиск был поставлен из белого мрамора, где было изображено искажённое лицо, считающееся автопортретом, со щита, там, где изображена Медуза Горгона, он изобразил. И вот его искажённое криком лицо было изображено на этом белом монументе. Но подводя итоги, можно сказать вот о чём, предположить вот что: за его наследство просто стали… его списали уже, и за его наследство стали бороться три могущественных клана, не клана, а вот, я не знаю, как из назвать.
Д.Ю. Организации.
Александр Таиров. Да, это испанский вице-король, Мальтийский орден и Папство. Вот они три между собой стали грызться за эти картины. И по сути, я думаю, что они, его списав, они и кто-то из них организовал, или в сговоре друг с другом организовали. Он им был уже не нужен, и в том состоянии, в котором он был и до которого его довели, он был уже бесполезен, они понимали, что он уже ничего не создаст, и таким образом как бы расправились с человеком. И представьте себе, вообще, трудно представить себе ситуацию, когда ты просто вычеркнут, когда ты просто изгой, не просто ты лишён права – ты просто вне закона везде, где тебя, с одной стороны, Папские ищейки, с другой стороны…
Д.Ю. Мальтийские.
Александр Таиров. Да, и всё, и вот таким образом кончилась жизнь, и тогда, когда говорят, что нашли его кости, не нашли его кости… И вот такой большой знак вопроса, где он, как он кончил свои дни – и по сей день это всё не ясно.
Д.Ю. Ах, мама, жизнь была жестока. Да, вот это судьба! Ну, у них у всех, по всей видимости, так было. Раз уж такой талант, то ты там между молотом и наковальней всю жизнь.
Александр Таиров. И вот сейчас такое, на секундочку повисло такое молчание, как будто было ощущение на секунду у меня какой-то вечности, к которой ты оказываешься причастен. Когда касаешься судеб таких людей, несмотря… ведь самое главное, что мы должны заметить: несмотря на всю сложность, в которой он находился, когда он успевал писать вообще? И сколько он успел создать за эти 20 лет! 37 лет, пороговая цифра какая-то непонятная, после которой уходили очень многие известные творцы. Как, что за совпадение, что за сакральная цифра такая? Что за фатальный возраст такой, в котором ушёл и Пушкин, кстати, в т.ч., и Рафаэль, и Модильяни?
Д.Ю. «На цифре 37 с меня в момент слетает хмель», да. Спасибо, Александр Иванович. Сегодня явно в ударе были! Да, очень круто! Спасибо.
Александр Таиров. Всегда рад.
Д.Ю. Спасибо. А на сегодня всё. До новых встреч.

 Новости
Новости